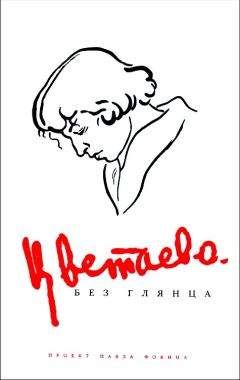Павел Фокин - Тургенев без глянца
Ввиду начинавшегося кое-где брожения крепостных, в то время уездные власти с подобными доносами считались весьма серьезно, и в Спасское-Лутовиново, для усмирения «бунта», немедленно полетел капитан-исправник.
Однако Тургенев и исправнику заявил, что он Луши не выдаст.
Услышав такое заявление, исправник, поддерживаемый Лутовинихой, собрал из жителей окрестных селений толпу «понятых», вооруженных дубинами, и во главе ее отправился к дому, в котором укрывалась девушка.
Тургенев встретил исправника на крыльце этого дома с ружьем в руках.
– Стрелять буду! – твердо заявил Иван Сергеевич.
Понятые отступили.
Исправник, пользовавшийся в Спасском-Лутовинове постоянным гостеприимством, не знал, что делать.
Вероятно, финал получился бы печальный, если б не вмешалась сама Лутовиниха.
– Пусть девка остается, коли она ему так нужна, – объявила барыня, – а кровопролития не надо… Я плачу неустойку…
Таким образом, кровавое столкновение было отвращено, но тем не менее возникло «дело о буйстве» Ивана Сергеевича, затянувшееся на несколько лет. Выходило так, что полиция не находила «дворянина Тургенева» в месте жительства, и бумаги о «розыске» его то и дело пересылались из одного места в другое…
Наконец, после бесконечных мытарств и «волокиты», дело о «буйстве» дотянулось до царского манифеста, которым и была покрыта «вина» И. С.
Иван Сергеевич Тургенев. Из «Литературных воспоминаний»:
В начале 1837 года я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашение на литературный вечер. Незадолго перед тем я представил на его рассмотрение один из первых плодов моей Музы, как говаривалось в старину – фантастическую драму в пятистопных ямбах под заглавием «Стенио». В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал, с обычным своим благодушием, это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание байроновскому «Манфреду». Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, причем, однако, заметил, что во мне что-то есть! Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два и год спустя напечатал их в «Современнике», который унаследовал от Пушкина. Заглавия второго не помню; но в первом воспевался «Старый дуб», и начиналось оно так:
Маститый царь лесов, кудрявой головою
Склонился старый дуб над сонной гладью вод,
и т. д.
Это первая моя вещь, явившаяся в печати, конечно, без подписи.
Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!» – засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до тех пор не удавалось встретиться; и как я досадовал на свою мешкотность! Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему. <…>
Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз – за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей – и кудрявые волосы… Он на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом – вообще он казался не в духе – и отошел в сторону. Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу – и невольно повторял про себя:
Недвижим он лежал… И странен
Был томный мир его чела…
Варвара Николаевна Житова:
С Иваном Сергеевичем в это время (в 1838 г. – Сост.) мы были в величайшей дружбе. Он очень любил меня, играл со мной, бегал по огромной зале, носил меня на руках, и сам еще был так юн, что не прочь был, не ради одной моей забавы, но и для собственного своего удовольствия, и бегать и школьничать. Одно из наших общих с ним школьничеств я живо помню.
Он почему-то тогда усиленно занимался греческим языком. Каждое послеобеда кто-то приходил к нему и, к великому моему огорчению, в эти часы вход в его комнату мне воспрещался. Я только за дверью слушала какие-то непонятные звуки, выделываемые то голосом Ивана Сергеевича, то голосом его учителя или товарища. Но в изучении Аристофана и мне пришлось принять участие. Однажды он вздумал научить меня лягушечьему греческому языку (как он сам выражался). Познания мои заключались в том, что он заставил меня заучить следующие звуки: «Бре-ке-ке-кекс-коакс-коакс»[22]. Получив эти сведения из квазигреческого языка, я была ставлена им на стол, причем он придавал мне какую-то, вероятно, классическую позу с весьма вытянутой рукой, и заставлял меня повторять заученное, сначала протяжно, почти торжественно, а потом очень быстро и самым тонким, визгливым голосом. При этом мы оба заливались таким громким смехом, что представление наше часто обращало на себя внимание Варвары Петровны, выходившей нас унимать: «Finissez donc, Jean, vous gâtez la petite, vous en ferez un virago!»[23]
Иногда же в момент наших самых шумных увлечений при представлении выходила нас укрощать главная камер-фрейлина maman. Входила эта особа неслышною поступью, но строго и внушительно произносила: «Мамашенька приказали вам перестать!» Мы умолкали, и в мое утешение Иван Сергеевич сажал меня к себе на плечо и торжественно носил меня по комнате.
Все это происходило в то время, когда Иван Сергеевич был совсем юноша. Тогда он еще смеялся тем беззаботным, раскатистым смехом счастливого человека, и смех его был иногда так громок, что мать весьма строго и серьезно останавливала его: «Mais cessez done, Jean, c’est même mauvais genre de rire ainsi. Qu’est ce que ce rire bourgeois!»[24] <…>
Но лучше всего было у нас с ним послеобеденное время, когда maman уходила отдыхать в свою спальню. Иван Сергеевич ложился тоже на патэ.
Такого рода мебели теперь, я думаю, уже нигде не встретишь, но в Спасском тогда эта четырехугольная громада, вышитая по канве какими-то причудливыми арабесками, занимала всю середину небольшой гостиной нового дома.