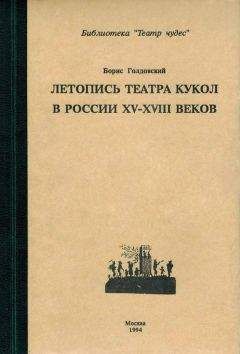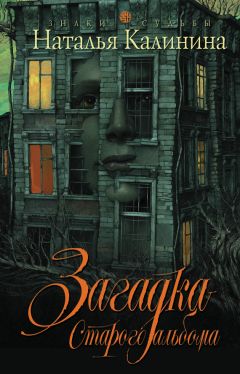Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
В последние годы давно уже наметился раскол, а может и расколы, между друзьями и недрузьями по поводу самых животрепещущих вопросов, и многие оказались по разную сторону баррикад, только теперь о своих взглядах можно кричать на каждом перекрестке. А раньше жили, как в старом анекдоте: американец говорит русскому: «Вот у нас настоящая свобода. Можно стать перед Белым домом и сказать: "Американский президент — дурак", — и ничего тебе за это не будет». На что русский отвечает: «И у нас можно выйти на Красную площадь и сказать: "Американский президент — дурак"».
Году в 49-м, идя с приятелем поздно вечером из гостей по набережной, я вдруг из чистой бравады буркнула: «Терпеть не могу эти алые звезды». Мой спутник, офицер военной академии (да еще член партии) не проронил ни слова в ответ, а знакомы мы были с детства и семьями. Через несколько лет. услышав от близкой приятельницы: «Ну вы-то известные контрики», — я чуть не остолбенела. — неужели даже среди близких друзей мы выглядим белыми воронами, вроде бы не высовываемся? Хотя, по большому счету, все они за редчайшими исключениями, действительно, были советские.
Но возвращаясь к размежеваниям: во время венгерских событий мы зашли к друзьям. Те в это время слушали радио и с сияющими лицами и чувством облегчения объявили нам: «Ну, слава Богу, наши танки вошли в Будапешт; теперь там наведут порядок». Спорить было бесполезно, но дружба после этого пошла на убыль. А в эти же дни находились такие, вернее, такой (Н.Коржавин), отсидевший в тюрьме и ссылке и, все равно продолжавший восставать в Будапеште, — хоть и не на берегу Дуная, а в стихах («…только раз я восстал в Будапеште…»). И не боялся их читать, так же, как и предыдущие, за что и отбывал срок. Он и про тридцатые писал «…а я бродил в акациях как в дыме, и мне тогда хотелось быть врагом…», тогда, как некоторые продолжали воспевать ту, и в самом деле, «единственную», братоубийственную, по жестокости и кровавости мало с чем сравнимую («Я все равно паду на той, на той единственной гражданской»).
Летом 57-го в Паланге, мы много общались с Юрием Борисовичем Румером. Незадолго до этого он вернулся из ссылки и теперь жил и работал в Новосибирске. В голове у него, по его собственным словам, постоянно срабатывало нечто вроде счетной машинки с единственным ответом — минус семнадцать. Из всех, кого я знала, вернувшихся, как и он, из небытия, никто эти 17, 18 и любое другое количество лет, проведенных там, не перечеркивал. Из мало с чем сравнимого по чудовищности опыта, кто меньше, кто больше, но все что-то выстрадали и вынесли. Почти все эти годы Ю.Б. проработал в КБ — шарашках. До войны, когда его, хорошо одетого, с такими же хорошо одетыми справа и слева, везли в троллейбусе или трамвае из одной шарашки в другую, встречавшиеся знакомые кидались к нему с объятиями и вопросами: «Что с тобой случилось, где ты пропадал?», ему не оставалось ничего другого, как выдавливать улыбки и придумывать разные небылицы. Но, вообще Ю.Б. не любил пускаться в подробности, предпочитая шутить, рассказывать старые анекдоты, подсмеиваться над знакомыми: «Один Люся-час убивает взрослого слона», — говорил он про одну даму, жившую тогда в Паланге. Часто вспоминал Ландау, ценил его очень как ученого и друга, не раз повторял, что именно он вытащил его из лагеря в КБ, вспоминал их совместные шалости и проказы в Германии, где какое-то время они вместе учились. Его любимым языком на всю жизнь остался немецкий, — первый, по его словам, язык любви, дружбы, науки. Мама не раз пыталась завести Ю.Б. на серьезные темы.
Вы, физик, столько пережили, неужели же не пришли к Богу? Ведь и Эйнштейн, и Шредингер…
Не знаю, не знаю, мне очевидно только, что дважды два всегда четыре.
Из поэтов больше всего ценил Есенина. Правда, когда Миша прочел ему «За гремучую доблесть грядущих веков» Мандельштама, даже разволновался и попросил для него переписать. Ну а из современной прозы, конечно же, Хемингуэй. Когда обнаружил у меня по-английски «По ком звонит колокол», тут же попросил ему дать и проглотил за одну ночь.
Помню только один из скупых рассказов Ю.Б. Его этапировали в Сибирь с партией уголовников. С ними, особенно с их главарем, у него сложились вполне дружеские отношения, те его угощали и считали своим. На одной из остановок к ним в теплушку подсадили деревенских мужиков с мешочками, тут же изъятыми у них его дружками. Пока он обдумывал, как бы ему отказаться на этот раз от совместной трапезы, их главарь его опередил: «Юрка, ты ведь все равно этого есть не станешь».
Такое панибратство с его стороны, продиктованное отнюдь не страхом или желанием подлизаться, резко отличало его от «настоящих» зеков, не считавших уголовников за русских, как объяснял герой «Ракового корпуса» медсестре, выразив отношение к ним самого автора и людей того же склада и убеждений. Они даже блатные песни «Мы бежали по тундре», «Централка» и другие, которые мы, глупые вольняшки, нередко распевали, на дух не переносили. Правда, со слов свекрови, я знаю, что ее отцу, Г.Г.Шпету, не давали выносить парашу те же уголовники, так же как и Руслановой, но та сама мало чем отличалась от блатных.
Заметив, что я могу часами сидеть или ходить вдоль моря, он как-то спросил: «А вам приходилось, Настенька, бывать когда-нибудь на берегу совсем одной?» Разговор тут же перескочил на другое, и я не узнала, где ему пришлось такое испытать, но теперь, когда порой мне выпадает счастье бродить одной вдоль шумных волн, я часто вспоминаю его слова.
До знакомства с Румером я слышала рассказы о лагере и ссылке от А.С.Эфрон и ее подруги А.А.Шко- диной-Федерольф. Муж в ее отсутствие женился, о чем счел нужным сообщить только при встрече; сестра побоялась пустить ее к себе, и она некоторое время жила у мамы. Но и она. и А.С. чаще всего вспоминали какие-нибудь забавные эпизоды из жизни в ссылке.
Правда, одну «красивую» фразу Ариадны Сергеевны, если здесь можно применить эпитет «красивая», хотя бы и в кавычках, произнесенную на допросе в застенках Лубянки, но еще до того, как у нее выбили ребенка, я запомнила. На сентенцию следователя «каждый человек — кузнец своей судьбы», — «особенно если он попадает между молотом и наковальней», — отрубила она. Хладнокровие и выдержка, по-моему, не покидали ее ни при каких обстоятельствах.
Однажды я перебила Аду Александровну каким-то вопросом. «Ну вот, я тебе про горностайчиков рассказываю, а ты все спрашиваешь про карцер», — рассердилась она. Недавно вышла книга ее воспоминаний, и там уже не только про горностайчиков. Сначала я по наивному тупоумию не могла понять, почему мужчины гораздо охотнее и подробнее рассказывают о тюрьме и лагере, и только узнав и от них, и из прочитанного, ноняла, что помимо кошмара, пережитого женщинами наравне с мужчинами, на долю первых выпали муки и унижения, о которых невозможно забыть, но и невозможно рассказывать.