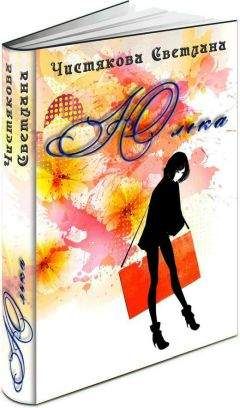Ирина Одоевцева - На берегах Невы
— Что пронесло? — подпытывалась я.
— Мало ли что. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Все равно не поймете.
Да, понять было трудно. Как могла в нем, наряду с такой невероятной трусостью, уживаться такая же невероятная смелость? Ведь нам всем было известно, что он не побоялся выхватить из рук чекиста Блюмкина пачку «ордеров на расстрел» и разорвать их. Кто бы, кроме Мандельшта-ма, мог решиться на такое геройство или безумие? Как же так? Труслив, как кролик и в то же время смел, как барс.
— А очень просто, — любезно разрешил мое недоумение Лозинский, — Осип Эмильевич помесь кролика с барсом. Кролико-барс или барсо-кролик. Удивляться тут вовсе нечему.
Но я все же удивлялась многому в Мандельштаме, например, его нежеланию хоть на какой-нибудь час остаться одному. Одиночества он не переносил.
— Мне необходимо жить подальше от самого себя, как говорит Андре Жид, — повторял он часто. — Мне необходимо находиться среди людей, чтобы их эманации давили на меня и не давали мне разорваться от тоски. Я как муха под колпаком, из которого выкачали воздух, могу лопнуть, разлететься на тысячу кусков. Не верите? Смеетесь? А ведь это не смешно, а страшно. — И он продолжал:
— Это действительно страшно. Я сижу один в комнате и мне кажется, что кто-то входит. Кто-то стоит за спиной. И я боюсь обернуться. Я всегда сажусь так, чтобы видеть дверь. Но и это плохо помогает.
Я уже не смеюсь. Я понимаю, что он не шутит.
— Чего же вы боитесь?
Он разводит руками.
— Если бы я знал, чего боюсь. Боюсь — и все тут. Боюсь всего и ничего. Это совсем особый, беспричинный страх. То что французы называют angoisse. На людях он исчезает. И когда пишу стихи тоже.
Не знаю, из-за этого ли страха, или по какой другой причине, но Мандельштам с утра до вечера носился по Петербургу. Гумилев, шутя говорил, что Мандельштаму вместе с «чудесным песенным даром» дан и чудесный дар раздробляться, что его в одну и ту же минуту можно встретить на Невском, на Васильевском Острове и в Доме Литераторов. И даже уверял, что напишет стихи — о вездесущем Златозубе.
Мандельштама, действительно, можно было видеть всюду, в любое время дня. Встретив знакомого, он сейчас же присоединялся к нему и шел с ним по всем его делам или в гости. Он понимал, что его посещение не может не быть приятным, что ему всегда и везде будут рады. А там, наверно, угостят чем-нибудь вкусным. Иногда он все же бросал своего попутчика, хотя он уже и сговорился следовать за ним повсюду до самого вечера — и перебегал от него к какому-нибудь более близкому приятелю, наскоро объяснив:
— Вот идет Георгий Иванов, а он мне, как раз, нужен. До зарезу. Ну, прощайте…
Но случалось, что Мандельштам исчезал на несколько дней. И тогда все знали, что он пишет стихи. То, что он мог заболеть, никому в голову не приходило. Впрочем, как это ни странно, в те голодные и холодные годы никто из нас не болел. Я даже не помню, чтобы у кого-нибудь был грипп.
Обыкновенно Мандельштам вставал довольно поздно, щелкая зубами, основательно умывался и тщательно повязывал галстук в крапинку — спешил до ночи покинуть свою семиугольную комнату.
В писательском коридоре отапливались печками-буржуйками. Дрова, правда, выдавались в изобилии. Они занимали один из углов комнаты Мандельштама, громоздясь чуть ли не до потолка.
Мандельштам, никогда не сидевший у себя, кроме дней писания стихов, все же не отказывался от дровяного пайка и разбросанные всюду поленья придавали его и без того странному обиталищу еще более фантастический вид. Обыкновенно Мандельштам и не пытался топить свою буржуйку.
— Это не моего ума дело, — говорил он. «Дело» это действительно требовало особых знаний и навыка. Дрова были сырые и отказывались гореть. Их надо было поливать драгоценным керосином и раздувать. Они шипели, тухли и поднимали чад. На «борьбу с огнем» Мандельштам решался только в дни, когда к нему «слетало вдохновение». Сочинять стихи в ледяной комнате было немыслимо. Ноги коченели и руки отказывались писать. Мандельштам с решимостью отчаяния набивал буржуйку поленьями, скомканными страницами «Правды» и плеснув в буржуйку стакан — всегда последний стакан — керосина, став на колени, начинал дуть в нее изо всех сил. Но результата не получалось. Газеты, ярко вспыхнув и едва не спалив волосы и баки Мандельштама, тут же превращались в пепел. Обуглившиеся мокрые поленья так чадили, что из его глаз текли слезы. Провозившись до изнеможения с буржуйкой, Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери.
— Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник. Помогите!
Но помощь почти никогда не приходила. У обитателей писательского коридора не было охоты возиться еще и с чужой печкой. Все они тоже не были «кочегаpaми и истопниками» и с большим трудом справлялись с «самоотоплением».
Михаил Леонидович Лозинский на минуту отрывался от своих переводов и приотворял дверь.
— Ну, зачем вы опять шумите, Осип Эмильевич? К чему это петушье восклицанье, пока огонь в Акрополе горит — или, вернее, не хочет гореть? Ведь вы мешаете другим работать, — мягко урезонивал он Мандельштама, но тот не унимался.
— У меня дым валит из печки! Чад — ад! Я могу угореть. Я могу умереть!
Лозинский благосклонно кивал:
— Не смею спорить. Конечно:
Мы все сойдем под вечны своды
И чей-нибудь уж близок час.
Надеюсь все же, что не наш с вами. А потому позвольте мне вернуться к Эврипиду, — и он, улыбнувшись на прощание, бесшумно закрывал свою дверь. А Мандельштам бежал в ту часть Дома Искусств, где царило тепло центрального отопления — в бывшие хоромы Елисеевых.
Но здесь было не легко найти уединенный и тихий уголок. В Доме Искусств или, как его называли сокращенно, в ДИСКе всегда было шумно и многолюдно. Сюда заходили все жившие по близости, здесь назначались встречи и любовные свидания, здесь студисты устраивали после лекций игры, в приступе молодого буйного веселья, носясь с визгом и хохотам по залам.
Но я в этот день пришла в ДИСК не для встреч или игр. Лозинский накануне сообщил мне, что в ДИСК привезли из какого-то особняка много французских и английских книг и их пока что свалили в предбаннике.
— Пойдите, поищите, — посоветовал он мне. — Может быть найдется что-нибудь интересное для вас.
В предбаннике, разрисованном в помпейском стиле, стояла статуя Родена «Поцелуй», в свое время сосланная сюда тогдашней целомудренной владелицей Елисеевских хором, за «непристойность», и так и забытая здесь новыми хозяевами.
В этом предбаннике Гумилев провел свои последние дни. Он переселился сюда в начале лета 21 г. с приехавшей к нему женой.