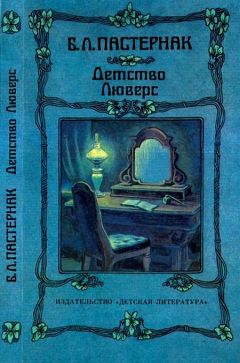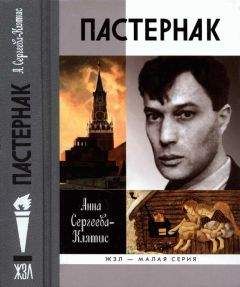Воспоминания. Письма - Пастернак Зинаида Николаевна
Пришел Гаррик, разговор о нем возобновился с удесятеренной силой. Ал<ександра> Вас<ильевна> более чем ценит и понимает его, я боюсь недооценить силу ее чувства к нему, все равно какого, но заразительно глубокого. Все это очень затянулось, стало светать. Моя усталость бросалась всем в глаза, трое суток я был в пути и прямо с корабля на бал. Но стали упрашивать почитать Цветаеву и в третьем часу ночи извлекли Крысолова [179]. Вещь превзошла Гарриковы ожиданья, он плакал и как завороженный твердил: гениально, гениально. Я сам поразился, как всегда выше всех наших памятей высота настоящих созданий, как вновь и вновь обгоняют они нас и всегда кажутся неожиданными. В пять часов утра мы с Г<арриком> вышли Скарятинским на Поварскую. Было совершенно светло. Подметали улицы. И только тут, перед самым расставаньем я решился назвать тебя и спросил, не знает ли он, где ты. Он сказал, что в своем письме ты ему о доме отдыха не писала, но что письмо замечательное, редкостное, что он ответил тебе и в ответ получил телеграмму с обещаньем нового письма.
Ты улавливаешь ноту ревности в этих строчках. О, разумеется. И так оно всегда будет и должно быть. Я сам не могу не хотеть этого. Он такой поразительный, такой несравненный! И кроме этого удивленья, всегда нового и покоряющего, – вечно вставать будет дорогое прошлое, необозримая громада сообща пережитого и разделенного, укоряющая без слов, повергающая во прах, страшная, страдающая, святая; – зимы и летние дачи, ранящие подробности тайны, известные лишь вам обоим.
Но что мне делать, – я люблю тебя.
Если я предупредил тебя этим утром на Поварской, если я в мыслях твоих числился еще в отъезде и вернулся слишком рано, когда ты видела одного Гаррика на углу Скарятинского, – если лучше мне было не торопиться, если вообще лучше было бы… – дорогой, дорогой мой друг, ты ведь сказала бы мне все это прямо, не правда ли? Смотри, Лялюся, мы все люди свободные, с правами и запросами другим на зависть, нечего нам щадить друг друга и бояться страданья. Я получил от отца письмо, равносильное проклятью. Оно на 20-ти страницах. А врачи запретили ему читать; ему 70 лет, и зренье его (осложненье после гриппа) под постоянной угрозой. И в пути Женя с Женечкой стояли передо мной, – двое суток я был в вагоне единственным пассажиром, да два проводника, я перечитывал три письма твоих [180], я без этой помощи помешался бы. Я все вновь и вновь передумывал в готовности все переделать.
Но что делать мне, я люблю тебя.
О если бы я любил тебя просто, как любят, когда может прийти дама, образованная, и за столом, отказываясь от сыра, давать советы, сияя и соучаствуя, – я, может быть, бы все это пересилил.
Но этой любви нельзя оставить и ничто на свете не может от нее оторвать. Она так непохожа на то, что становится с высочайшими вещами, когда они попадают к человеку. Ее не надо обдувать метелкой и обтирать тряпкой, беречь увереньями, она парусом развернулась над жизнью, собрала ее в одну бесспорность, украсила смыслом, под ней можно плыть хоть в смерть и ничего не бояться, она дыханье нежности смешала с дыханьем дороги.
Ты то, что я любил и видел и что со мною будет – и довольно, довольно, а то я наскучу тебе.
Твой, твой, Лялечка
Да и прости, в дороге – мысль, болела ли ты и заболеешь ли в свои сроки. Не озабоченность (все будет добром), а следованье памятью за твоим, за всей тобой.
Скажу опустить в почтовый ящик. Если дойдет таким путем, сходи или пошли кого-нибудь к Смирновым за сахаром и чаем, – я Гаррику не говорил, заменил своим.
Письмо написано из Москвы в Киев (примеч. З.Н. Пастернак).
13. VI.31
Дуся золотая, препровождаю тебе письмо Яшвили [181]. Все идет так, точно обстоятельства сами думают за меня. Позавчера я получил твое письмо с отказом насчет Преображенья, вечером – телеграфировал тебе, вчера утром пришло это письмо с Кавказа. Чтобы облегчить тебе разговор с И<риной> С<ергеевной>, я сам отправился к ней и сказал, что после таких заманчивых предложений и думать грех о Киеве, и, таким образом, летние предположенья, которые тебе не по душе, отпали уже тут, на месте, до ее встречи с тобой, и так что И. С. думает, что это все (особенно перемена с Ляликом) – мои козни. Но она в обиде на тебя, что ничего ты ей не писала, и слова мои о том, как ты измучена, цели не достигают.
Теперь о времени поездки. Мне потребуется еще около недели для улаженья своих дел. Думаю, – не больше. Но то, что так хотелось тебе и мне, совершилось. Мы опять как братья с Гарриком. И вот я узнал, что 28-го он собирается к своим [182] в Елисаветград, и это ведь через Киев. Теперь я связан тем, что это мне известно. Не только уезжать с тобой из Киева до этого срока, но и появляться там до него или при нем невозможно: первое возмутило бы его, второе – растравило. Ни того, ни другого я не могу позволить себе при естественно вернувшейся моей нежности к нему. Эту бережность очень трудно дозировать. Но человек, который ее вызывает, ее сейчас заслуживает. Я ему верю и верю в него. После концерта он неузнаваем. Страшно одухотворен, полон планов, хочет работать. Снова говорил о твоем письме, и на этот раз так, что я почувствовал угрызенья совести по поводу моих слов тебе в прошлом письме. Он теперь так сказал о душевной высоте твоих строк к нему, которых он без слез читать не может, точно это чем-то хорошим оборачивается и ко мне. Если он это выдумал, то все равно, его участье трогает и пристыжает меня в минутно допущенной ревности.
Теперь о кавказской программе. Вот несколько пояснений, Борис Николаевич – Андрей Белый (но его не будет там, он – в Детском Селе). Григорий Робакидзе [183] – глава всей возродившейся грузинской поэзии, нечто вроде Бальмонта или Брюсова по возрасту, значенью и совершенной далекости мне. Я его видел несколько лет тому назад в Москве, и он ничем особенным меня не пленил и никакой симпатии не вызвал. Странно с такой предпосылкой пользоваться кровом того же человека. Но я изложил свои сомненья И. С., и мы решили с ней, что наплевать, тем паче, что он в Берлине, и это его ничем не коснется. Предположенья Яшвили слабы только тем, что слишком хороши. Как смогу, ограничу степень своей материальной обязанности им, чтобы осталась одна вольная, товарищеская признательность и ничто нас не связало. Но программу выполним, это, наверно, захватывающе величаво все и живописно, – походим, поездим, не правда ли? В конце концов я этому страшно рад. А ты? Они все страшные красавцы там и рыцари. Без конца целую тебя. Ты мне там изменишь.
Весь твой Б.
Хотел послать тебе посылочку с И. С., но побоялся затруднить, 18-го едет Ушаков [184], злоупотреблю его любезностью. Письмо Яшвили верни, пожалуйста (вложи в письмо), мне оно потребуется для ответа после твоих замечаний.
Из Москвы в Киев (примеч. З.Н. Пастернак).
14. VI.31
Ангел мой, ангел мой, люби меня крепче, пиши мне, не оставляй, – чем буду я без тебя! Стыдно, но не могу скрыть: ничего не делаю, бездарнейше и бесцельно бьюсь над уже сделанным и читанным тебе и обоим Асмусам (первомайским), заменяю отдельные слова, чтобы потом опять, как в большинстве случаев, вернуться к первоначальному наброску, и временами впадаю в слабоумье от страшной, не мной рожденной, мной не пахнущей, со стороны внушенной, вынужденной тоски.
Так действуют вещи, стены дома. Так легло на душу письмо отца. Так действуют представленья о Жене и соображенья о Гарриковой поездке. И плохо сплю.