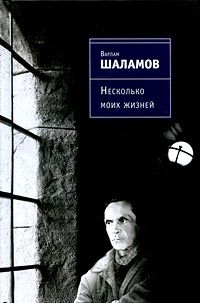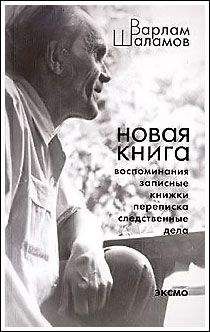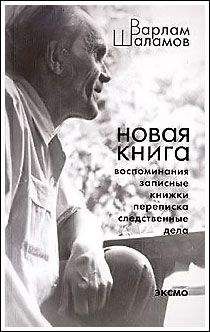Варлам Шаламов - Переписка
Валентин не пишет Вам потому, что занят не менее моего — из-за куска насущного камфорит подыхающее искусство районной самодеятельности, а тут еще тяготы забот о новорожденном, об освобождении жены и т. д.
У него нет и у меня тоже никаких перемен в юридическом положении. Встречаемся часто, но разговариваем на ходу. Валька ругается нещадно и, кажется, заражает этим меня. Я тоже от предпоследних слов перехожу к последним. И единственное, еще примирительно действующее надушу, это природа, это земля под солнцем. Да, становлюсь солнцепоклонником, и тем не менее — не гони меня нездоровье, я и не помышлял бы о бегстве с Севера. Мне уже не кажется, а я уверен: трудно сыскать сейчас место более подходящее для жизни, нежели Ягодное. Материально-культурные возможности на уровне большого города, а за километр от поселка — тайга, т. е. ягодники и грибные базары и ключи, полные форели. Сейчас, в середине августа, гляжу на речные поймы и на сопки и не могу наглядеться. Скорблю, что нет у меня времени да и мастерства для писания этих золотисто-оранжевых и голубых этюдов, нет времени для рыбной ловли и охоты. Впрочем, уже завтра брошу все и отправлюсь на двое суток на озеро Дж. Лондона. Знаю, они умиротворят меня надолго.
А.З. Добровольский — В.Т. Шаламову
12-14/X-56
Дорогой Варлам Тихонович!
Я ответил на Ваше короткое письмо, с вложением 3-х стихотворений Б.Л. уже давно.
Терпеливо дожидаюсь обещанного подробного письма, проливающего свет на характер Вашей занятости, содержании одержимости в настоящий момент ect.
Однако на этот раз уж слишком долго Вы молчите. В чем дело? Вас заела работа служебная или писательская? Хотелось бы знать, удалось ли Вам что-нибудь уже протолкнуть в печать? Хотя Вы и не придаете этому значения решающего, но все же — по крайней мере, для меня, это было бы свидетельством настоящего (отчасти) преодоления пресловутых последствий, т. к. я убежден — Вы уже сделали что-нибудь настоящее, а не настоящего не стали бы публиковать. Тут же сознаюсь Вам, что у меня дело идет чрезвычайно туго, даже можно сказать — совсем не идет.
То ли от уверенности, что еще не настало время для серьезных размышлений над содержанием отрицательного опыта, то ли от крайней служебной занятости — работа за кусок насущный требует со всей требухой, то ли наконец, от катастрофически упавшей работоспособности.
Всего вероятнее — все эти слагаемые присутствуют в состоянии, которое Вы как-то назвали «аграфией».
Да, полная аграфия. Содрогаюсь отвращением при виде листа белой бумаги.
Допускаю, что это еще может происходить и по причине психологической — я возлагал некоторые надежды (по вине Бажана, Пырьева и др.) на возвращение еще в этом году в Москву или Киев и на что-то вроде прежнего положения в производстве серых и известных теней. Однако, увы! — это не состоялось, и, судя по наступившей паузе в «обратном ходе» Фемидиной колесницы, может и не состояться. Крушение, нет — не крушение, а медленное издыхание этой моей последней иллюзии действует более опустошающе, чем + 10 лет в 1944 году.
Однако Вы-то меня поймете без комментариев…
А вот Валентин Португалов не далее, как позавчера, получил телеграмму из Москвы: «Вы реабилитированы по первому и второму делам. Документы высланы»… Представляете его ликование? Впрочем, Вам трудно представить, т. к. Вы не знаете всей тяжести его материальных обстоятельств в связи с семьей и т. д. Мы с Лилей даже считали, что Португаловым труднее живется, чем нам, я разделяю радость Вальки, но, откровенно говоря, мне еще горше сознавать, что мне, по-видимому, такого не дождаться. Угрожающе прогрессирует сердечная слабость. Эндартерит порою стреноживает так, что и жить не хочется. Только из-за Максима все еще остаюсь в Ягодном (Лиле обязательно нужно закончить курсы медсестер), тяну непосильное уже ярмо каторжной работы и не могу себе даже позволить лечь в больницу хоть на пару недель для текущего, какого ни на есть, ремонта. Так обстоят мои дела — довольно о них!
Скучаю по Вашим письмам. В 8-м, кажется, номере «Знамени», среди прочих неизвестных мне стихов Б.Л. встретил два знакомых и не удивился, что «Душу» не встретил. Это естественно. Прочел сборник стихов Л. Мартынова. В нем — много хорошего. Конечно, эта книжка — настоящее событие в поэтическом производстве последних лет. Сейчас мне ясно, что при всей далековатости результатов — Мартынов шел по следу Б.Л. и только на этом пути сохранился — выделился как поэтическая индивидуальность. В смысле лаконизма своих популяризаторских экскурсов в мир художественных интегралов и дифференциалов Б. Л. — Мартынов порою просто блестящ. И знаете, мне даже приходило на ум при чтении его стихов такое — это эссенции дурманящих ранних стихов Б.Л., разбавленных до крепости превосходного, освежающего одеколона. М. б., сравнение несколько вульгарное. Но мне оно объясняет происхождение таких строчек, как «я-то знал, что так жить нельзя, извиваясь и скользя». Не восходит ли этот простоватый афоризм к «вежливо жалящим змеям», замаскированным в «овсе»? Однако это не так важно.
Гораздо важнее появление этой книжицы в косяке поэтических карасей и налимов, жировавших у государственных кормушек. Думаю, что и Б.Л. порадовался этому факту — верно?
Я с интересом прочел «Тихого американца».[85] Этот модернизированный вариант «Преступления и наказания» выписан отменно.
Я еще не встречал лучшего раскрытия идеи того «избирательного гуманизма», понимание которой я формировал в этом определении еще во времена своих скитаний по колымским «обителям севера строгого»
Да, а вот «Время жить и время умирать» Ремарка — книга, даже в первой своей части потрясшая меня своей паталогоанатомической точностью, — это явление!
Так давно и что-то в этом роде представлялось мне, как беллетристический вариант известной Вам «Клиники и лечения обморожений» Герасименко — помните Вы эту монографию?
Впрочем, на эту тему можно говорить много, однако вряд ли стоит. Придет время эксгумации «погостного перегноя» — а я верю, что оно придет и не избирательно! — и будут написаны и записаны в анналы истории все необходимые протоколы…
Из фильмов последнего времени меня весьма тронул греческий фильм «Фальшивая монета».[86] Вот и Греция предстала перед нами почти такой, какой ее видел Олдридж[87] в «Деле чести» и о какой даже не подозревали рядовые члены профсоюза.
Правда, для меня это не было большой неожиданностью. Я вспомнил, что еще в начале 30-х гг. прочел единственную (для меня) книгу грека-современника. Она поразила меня и тогда прозрачностью мысли и светлой философией стоического жизнеутверждения, может быть, Вы тоже читали «Апология Сократа», Костоса Варналиса.[88]