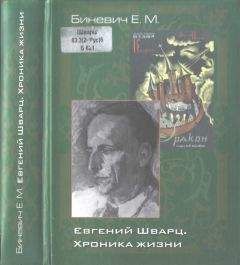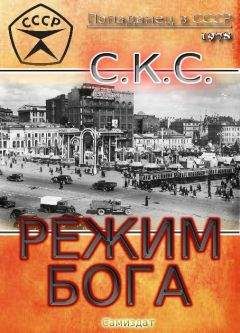Евгений Шварц - Мы знали Евгения Шварца
Однажды мне пришлось наблюдать его в момент, когда он оказался вынужденным лгать и притворяться. Было это в 1946 году, в Ленинградском театре комедии, к работе которого были причастны и Евгений Львович и я. Мы собрались в кабинете художественного руководителя театра Н. П. Акимова, чтобы слушать новую пьесу М. М. Зощенко. Пьесу Зощенко написал по договору с театром, читка была назначена заблаговременно, и ничего из ряда вон выходящего случиться не должно было. На такого рода читках всем нам приходилось присутствовать по многу раз, и только обстоятельство очень неожиданное придало ей поистине драматическую окраску.
Замысел новой пьесы Зощенко не вызывал ни у кого из нас никаких сомнений. Речь в ней шла о краже какой‑то знаменитой картины, стоимость которой исчислялась миллионами. Вор сумел сделать все. Он отлично организовал похищение, проявил незаурядную изобретательность в утайке украденной картины. Однако единственное, чего он не понял, — это того, что непреодолимой преградой на пути к богатству встанут перед ним законы нашего общества, социалистические отношения людей.
В самый день читки в одной из газет появилась крайне резкая статья об опубликованном незадолго до этого рассказе Зощенко «Обезьянка». По статье легко было понять, что печаталась она не по инициативе самой газеты и имела в виду не один только разбираемый рассказ писателя. Каждый из нас отдавал себе отчет в том, что появление статьи способно поставить под сомнение будущую постановку новой пьесы Зощенко, но опережать события тоже не было ни причин, ни желания. Тем более не хотелось раньше времени наводить на столь мрачные размышления самого Зощенко.
Велико было наше удивление, когда мы увидели пришедшего без минуты опоздания, как всегда, подтянутого, с чуть нарочито приподнятыми плечами, не улыбающегося — он улыбался очень редко — и с ходу готового приступить к читке Михаила Михайловича. Как выяснилось гораздо позже, Зощенко еще не успел прочитать газету, о нависшей над ним беде ничего не подозревал.
Убедившись в этом, Шварц буквально побелел. Всегда необыкновенно корректный, он вдруг стал раздраженно посматривать на часы. Заметив, что Акимов вышел на минуту из комнаты, он довольно открыто выразил свое недовольство. И когда наконец читка началась, он уселся так, чтобы смотреть Зощенко прямо в лицо, и приготовился слушать. Акимов подвинул ему листок для записей, но он очень решительно отодвинул листок в сторону.
Читка продолжалась около двух часов, и на всем ее протяжении можно было видеть настоящие страдания Евгения Львовича. Он то смотрел в какую‑то одну точку на пустом столе, то опускал голову, то снова поднимал ее, и все это было так непохоже на его обычно независимую и естественную манеру держаться, создавать вокруг себя атмосферу дружеской, облегчающей жизнь полушутки. В тот раз он не только не шутил, но и вообще не сказал ни одного слова. Только спустя несколько дней он признался мне: «Какие бы я слова ни произнес в ту минуту, слова сочувствия или огорчения, они все равно были бы ложью».
Когда читка кончилась, наступило самое страшное. Еще ничего не подозревавший Зощенко как на грех был настроен очень воинственно и деловито. Не удовольствовавшись общими и ничего не означающими словами Акимова и какими‑то очень, должно быть, банальными фразами, сказанными мной, он обратился к Шварцу, и тот вдруг впервые за это утро улыбнулся и сказал непривычно тихим голосом: «Ну уж мы‑то сумеем поговорить по дороге, домой‑то нам вместе идти!» Зощенко был очень гордым и ранимым человеком. Не услышав сколько‑нибудь определенного слова о судьбе пьесы, он явно обиделся и, не дожидаясь Шварца, удалился. Что же касается Евгения Львовича, то он уселся в акимовское кресло, положил руки на подлокотники и сказал медленно и совершенно серьезно: «Я сегодня был в аду».
Именно потому, что Шварц не был ни в коей мере сентиментальным добряком, легко пользующимся общепринятой фразеологией сочувствия и сопереживания, он совершенно терялся в присутствии людей огорченных, попавших в беду, нуждающихся в поддержке. Когда вскоре после окончания войны в Ленинград приехала группа немецких писателей — антифашистов и в «Астории» состоялась дружеская встреча с ними писателей Ленинграда, тамадой на этой встрече стихийно стал Евгений Львович. Все шло великолепно, и Шварц, как говорится, превзошел себя в искусстве веселого председательствования. Но как только наши гости заговорили о том, как тяжело им сознавать, что именно из их страны пришло сюда, на советскую землю, и в частности в Ленинград, столько непоправимого человеческого горя, Шварц умолк, опустил голову и на некоторое время замолчал. На протяжении этих нескольких минут у него был такой вид, будто он, именно он, в чем‑то провинился перед гостями. Произносить вслух, да еще на виду у многих, слова сочувствия и утешения он не умел и не хотел.
Впрочем, он был необыкновенно чувствителен не только на людях, но и наедине с собой. В мемуарном рассказе «Печатный двор», повествующем о днях литературной молодости Шварца, есть такие строки: «… Едва я начинал перебирать то, что пережито с утра, как все впечатления, словно испугавшись, убегают, расплываются, перемешиваются. Попытки их передать, робкие и осторожные, кажутся в картонажном мире непристойными, грубыми. — Потом, потом! — приказываю я себе». Оказывается, далеко не всегда художнику легко и просто возвращаться к своему прошлому, ибо возвращаться стоит только ради правды. Строить декорации на развалинах прошлого он считал делом по меньшей мере бесцельным.
Воспоминания могут самым неожиданным образом вступить в противоречие со взглядом в завтрашний день, в будущее. Бывает и так, что непрошенное умиление перед тем, что было, мешает художнику бесстрашно и убежденно идти навстречу тому, что будет. Шварц всегда вспоминал о давно прошедших днях без тени подобного умиления. Он судит об этих днях со всей строгостью, а если надо, то и со всей жестокостью, которой во многих случаях требует бескомпромиссная и безоговорочная правда жизни.
При этом о людях он высказывается, не унижая их своей снисходительностью; о самом себе говорит с холодной и безоговорочной прямотой, избегая интригующих иносказаний и многозначительных недомолвок. Художник не устраивает, подобно иным слишком уже радушным мемуаристам, особого рода экскурсию в свой внутренний мир и не выставляет напоказ достопримечательности этого мира. Такого рода гостеприимство в большинстве случаев выдает известную нескромность авторов воспоминаний, и, в конечном счете, оно не столько гостеприимство, сколько хвастовство.