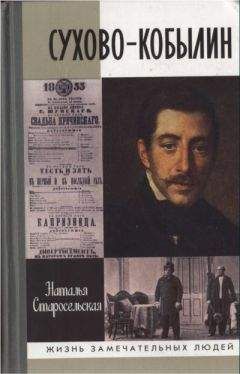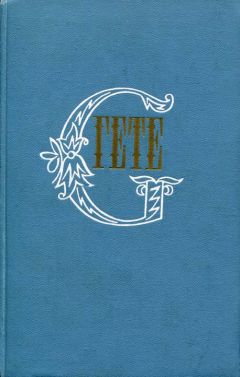Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга
«Литературный кружок ведет себя странно. Тут было не менее двенадцати литераторов и ученых. И ни один ни слова о моей пиэссе. Странно. И это в то время, когда в Москве дерутся у кассы и записываются за два и за три представления вперед… Я так стал уединен, что у меня до такой степени нет ни друзей, ни партизанов (то есть приверженцев, сторонников. — В. О.), что не только не нашлось и человека, который захотел бы заявить громадный успех пиэссы, но даже никто не пожал мне радушно руки. Я стою один-один».
Это чувство одиночества в литературе переродилось позднее в чувство ненависти к «литературному цеху».
Цех отвернулся от него.
Но зато… «В гимнастике приняли отлично — кричали ура».
Старые товарищи — повесы и донжуаны, фехтовальщики, кутилы и игроки — качали его на руках, стреляли в его честь шампанским и хвалили напропалую: «Друцкой — выразился наконец, как я хотел: “Всё прекрасно — характеры, форма”. Чайковский — что такого разговорного языка еще у нас на сцене не было. Что публика в восхищении, что есть люди, которые обещались видеть пиэссу всякий раз, как будут ее играть; что это явление необыкновенное в нашей литературе, какого уже 15 лет не было со времен “Ревизора”».
Противоречия были разительные.
Но не было в его жизни дня более странного и противоречивого, чем день седьмого представления пьесы — 11 декабря 1855 года. Бесчестье и слава. Оба лика его судьбы явились ему разом. И он ужаснулся, когда и в том и в другом узнал своего незрячего поводыря…
Он был еще в постели, в плену летучих видений утреннего сна, и только слуги, под присмотром камердинера готовившие столовую к завтраку, нарушали дремотную тишину осторожным звоном тарелок, когда по широким чугунным ступеням парадного крыльца всходила замедленным шагом стройная процессия. Впереди, в длинном черном пальто поверх рясы, высоко подняв голову и держа перед собой запечатанный сургучом конверт, выступал пожилой, но довольно бодрый на вид священник с красным тугим лицом в сиреневых прожилках, обрамленным небольшой округлой бородой; за ним следовало несколько чиновников в пестрых шубах и с толстыми папками под мышками; затем — полицейские чины разного достоинства, но все с одинаково поднятыми воротниками; замыкал процессию квартальный поручик с двумя жандармами при саблях.
— Барин! Александр Васильевич! — испуганно шептал камердинер, мягко, но настойчиво толкая его в плечо. — Вставайте… за вами пришли… священник, полиция!
— Что?.. А?.. Куда? В тюрьму?!.
— Не знаю, батюшка! Помилуйте дурака… Они все там, в гостиной, требуют вас!
Через полчаса, наскоро умытый и одетый камердинером, он резким движением распахнул двустворчатую дверь и быстрыми шагами вышел в гостиную. Вся делегация поднялась со стульев и кресел. Александр Васильевич окинул всех беглым взглядом — узнал старика в рясе, который уже надел сверкающие круглые очки и осторожно распечатывал конверт. Это был отец Иоанн, в миру Георгий Соколов, священник Московской епархии, участвовавший в работе следственных комиссий по делам дворян и исполнявший особые предписания Сената и надворного суда. Александр Васильевич на полушаге остановился посреди гостиной и заложил за спину левую руку, как будто изготовился фехтовать.
— Чему обязан, господа? — сухо проговорил он.
— Господин э… отставной титулярный советник… извольте выслушать определение Правительствующего сената от одиннадцатого ноября сего года по делу об убийстве э… купчихи Луизы Симон-Деманш, а также постановление по этому делу духовного начальства Московской епархии.
Чиновник отошел назад и, смиренно склонив голову, произнес:
— Читайте, батюшка.
Соколов начал читать, и по мере того как слова — слитно, без единой паузы — струились в его бороду, лицо Александра Васильевича мрачнело и бледнело. Его глаза неподвижно глядели мимо священника; под скулами вздрагивали желваки.
— Рассмотрев на заседании 11 ноября 1855 года дело об убийстве московской купчихи Луизы Ивановны Симон-Деманш, — зачитывал отец Иоанн, — Правительствующий сенат, учитывая обстоятельства, расследованные Особой Чрезвычайной и Высочайше Утвержденной следственной комиссией, нашел необходимым дать по этому делу определение для дальнейшего его прохождения по всем инстанциям, коим предписывается руководствоваться в своих действиях настоящим решением Сената, а именно:
1. Отставного титулярного советника Сухово-Кобылина по предмету участия в убийстве Деманш и подговора для сокрытия сего преступления своих дворовых людей принять убийство Деманш на себя — оставить в подозрении.
2. За любодейную связь Сухово-Кобылина с Симон-Деманш, продолжавшуюся около восьми лет и разорвавшуюся жестоким смертоубийством, события которого наводят подозрение на самого Сухово-Кобылина в совершении преступления с его ведома и при его участии, подвергнуть его строгому церковному покаянию для очищения совести и по усмотрению духовного епархиального начальства.
Закончив с этой бумагой, отец Иоанн зачитал постановление Московской епархии, в котором предписывалось произвести процедуру церковного покаяния 11 декабря 1855 года в церкви Воскресения на Успенском Вражке во время утренней службы в присутствии уполномоченных чиновных лиц Московского надворного суда, уголовной палаты и Правительствующего сената.
Александру Васильевичу вручили копии решений и попросили поторопиться со сборами. Вся делегация вышла на улицу, кроме квартального поручика с жандармами, которые остались в прихожей и стояли в дверях с обнаженными саблями.
Александр Васильевич еще с минуту, не двигаясь с места, стоял посреди гостиной, держа в руках листы, просвеченные лучами морозного зимнего солнца, смотревшего в окна:
«Верить ли глазам — так сбывается непостижимейшее и невозможнейшее в жизни, два великих события рядом: одно нежданно-негаданно дает венок лавровый, другое бесчеловечною рукою надевает на голову терновый и говорит Ессе Homo[17]. Что я вытерпел! Что пережил! Или страшно много во мне силы? Куда ведет судьба, не знаю. Странная судьба, или она слепая, или в ней высокий, сокрытый от нас разум. Сквозь двери сырой сибирки, сквозь Воскресенские ворота привела она меня на сцену Московского театра и, протащив по грязи, поставила вдруг прямо и торжественно супротив того самого люда, который ругался мне и, как Пилат, связавши руки назад, бил по ланитам. Теперь далее ведет судьба — публичному позору и клеймению предает честное имя, и я покорен тебе, судьба, — веди меня, я не робею, не дрогну — не дрогну, даже если и не верю в твой разум, но начинаю ему верить. Веди меня, Великий Слепец — судьба».