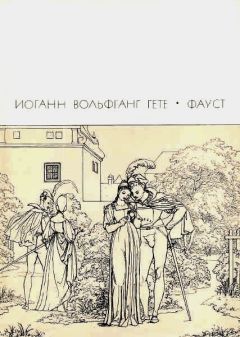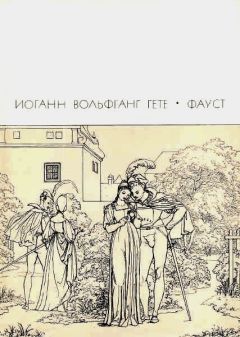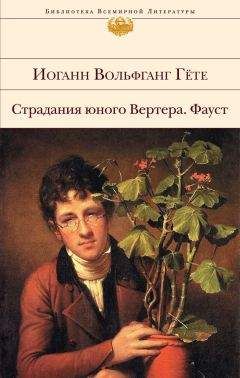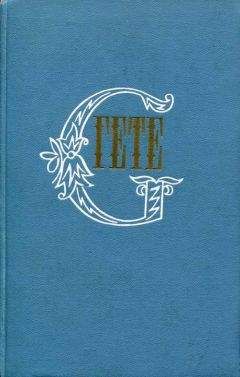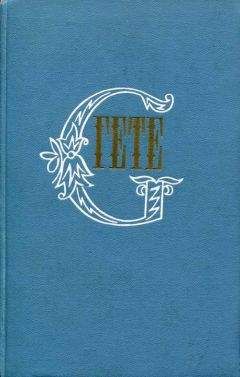Эмиль Людвиг - Гёте
В это время у Гёте впервые возникает предчувствие смерти. Через несколько дней после дня своего рождения, Гёте пишет на дощатой стене, под картиной, изображающей тюрингский пейзаж, свои удивительные стихи:
Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного —
Отдохнешь и ты!
Неужели любовь бессильна? Неужели не может отвратить мыслей Гёте от неизбежного конца?
Вернувшись из Швейцарии, он продолжает навещать и Корону, и госпожу фон Штейн. Но уже через неделю его начинает мучить недовольство Шарлотты. Им овладевает глубокая печаль. Проходят два месяца, и он, очевидно навсегда, расстается с Короной. Может быть, потому, что он находился в таком антипоэтическом, таком антиэстетическом настроении, артистичная Корона стала ему чужой. Может быть, разрыв ускорило то, что Гёте ревновал к ее прошлому, к герцогу и к другим. А может быть, в этом повинно и скептическое отношение Короны к госпоже фон Штейн. Как бы там ни было, он сообщает своей подруге, что порвал с Короной. Сообщает тем откровеннее, чем тщательнее скрывал от нее свои интимные отношения с актрисой.
«Вчера вечером, — докладывает Гёте госпоже фон Штейн, описывая ей репетицию своей пьесы «Калисто», — прекрасная Мизель, подобно комете, сорвала меня с привычной орбиты и увлекла к себе домой. Репетиция сопровождалась весьма дурным настроением». И в тот же день он делает своему дневнику совсем другое признание. «Вечером репетиция «Калисто». О Калисто! О Калисто!» Как звучит здесь боль расставания с женщиной, возлюбленным которой он был в этот самый вечер.
Этот вечер — кризис в их отношениях, его прощание с певицей. На следующий вечер она вместе с приятельницей заходит к Гёте и застает у него герцога. «Но так как все мы больше не влюблены, пишет поэт в своем дневнике, — и на поверхности лава уже застыла, то все прошло как нельзя лучше. Вот только надо соблюдать осторожность и не попадать в трещины. В них все еще полыхает огонь».
Проходит еще полгода, и Гёте записывает: «Корона утешилась». Вероятно, в это время он написал письмо, единственное, которое дошло до нас:
«Как часто хватался я за перо, пытаясь объясниться с тобою! Как часто объяснение было у меня на губах!.. Но я не хочу оправдываться, чтобы не задеть струны, которые не должны больше звучать. Молю бога, чтобы ты и безо всяких объяснений примирилась со мной и простила меня… Если я в чем и виноват пред тобой, ведь это так человечески… Ведь и я простил тебе многое. Давай жить в дружбе. Мы не можем уничтожить прошлое, но мы вольны в будущем, если только будем умны и добры. Я ни в чем не подозреваю тебя. Не отталкивай же и ты меня, не отравляй мне часы, которые я могу проводить с тобою… Но, если ты требуешь большего, то я готов сказать тебе все… До свидания! Как бы я хотел, чтобы наши отношения, которые так долго были зыбкими, обрели, наконец, твердость! Г.
Спасибо тебе за пирог и за песню, посылаю тебе в благодарность пеструю птицу».
Как ощущается в этих строчках тяжесть, которая давит душу. И, кажется, мы видим лицо тридцатилетнего человека, которое дышит грустью и изборождено морщинами. Таким и изобразил его ваятель Клауэр, сделавший пять скульптурных портретов Гёте.
Летом в Веймар приезжает маркиза Бранкони — очевидно, только чтобы повидать Гёте. Он любуется ее красотою, но скорее как художник, чем как поэт.
«Лишь теперь, — пишет Гёте после отъезда маркизы, — почувствовал я, что вы были здесь. Так чувствуешь вкус вина только через несколько минут после того, как его выпьешь. В вашем присутствии хочется иметь как можно больше глаз, ушей, ума, чтобы видеть вас, верить и понимать, что и небу захотелось… создать нечто подобное вам».
Очевидно, маркиза старалась завлечь его, потому что он пишет: «Я вел себя с вами, как с королевой или святой. Может быть, это безумие, но я не хочу, чтобы пошлое мимолетное вожделение замарало образ, который я нарисовал себе. А уж от более серьезных уз избави нас боже. Ведь с их помощью вы похитили бы у меня душу из тела».
Гёте пытается уйти от чувственного воздействия женщины. Ему хочется дышать более чистым воздухом в более высоких слоях атмосферы.
И все-таки, какой вымученный год, год застоя! Человек уходит от света, чтобы сделать своим идолом меланхолическую придворную даму. Чем глубже погружается Гёте в практическую деятельность, чем больше отходит он от поэзии, тем ближе ему Шарлотта фон Штейн. Немолодая дама, намного старше его, она целых двадцать лет провела при дворе, теперь она становится советчицей Гёте во всех его делах. Шарлотта фон Штейн вовсе не хочет быть музой поэта, она вовсе не хочет заставить его вернуться в то, другое, царство поэзии. Она хочет только, как можно крепче, удержать его в этом, в земном. Шарлотта стала естественной спутницей Гёте. Постепенно она унаследовала все чувства, которые он питал к другим женщинам, стала для него матерью, сестрой, наконец, возлюбленной. Обычно он легко справляется с неровностями ее настроения — посылает ей маленькую метелку, чтобы она вымела свои обиды на него. Шарлотта ревнует его к своим кузинам, которым он посвятил какие-то стихи, он обещает ей впредь этого не делать. Он доверяет ей все, что его волнует, и уже не чувствует стремления излиться перед нею в стихах. Именно ее отсутствием (она как раз куда-то уехала) объясняется то, что первый акт его «Птиц» написан так быстро. «Ведь когда вы здесь, мне слишком хорошо в часы досуга… Всегда, как только возможно, стараюсь я излить вам все, что поминутно волнует мою душу. Когда вас нет, мне некому исповедаться, и я вынужден искать другую отдушину».
И все-таки у нас есть свидетель, который утверждает, что именно в этом году Гёте чрезвычайно много утаивал от своей подруги. Никогда больше не станет Гёте так перегружать исповедями свой дневник, который по краткости обычно напоминает календарь. Зато в бесконечных письмах к Шарлотте он вовсе не исповедуется. Наоборот, он постепенно развивает в себе полную скрытность и не говорит ей о том, что происходит в его душе.
Проходит еще год. Гёте минуло тридцать два.
Вот уже пять лет, как он живет в Веймаре. И неприметно в нем начинается внутренний поворот. Он все еще любит свою подругу. Но его жизнь, вращавшаяся вокруг нее, изменилась. В течение всех этих лет только эта женщина составляла центр и содержание его бытия. Она должна, наконец, принадлежать ему, мужчине.
Кризис начинается с вопля. Впервые прорываются темные силы, так долго лежавшие под спудом. «Мне было очень больно, — пишет Гёте Шарлотте, — от слов, которые вы сегодня произнесли. Не будь герцога, который поднимался вместе с нами в гору, я бы наплакался вволю. Да, только ненависть к собственной плоти может заставить несчастного искать облегчение в том, чтобы оскорблять любимую. И будь это только припадком, капризом. Но ведь я со всеми тысячами моих мыслей превратился в ребенка, который не знает, что происходит с ним, который не разбирается в себе. А ведь в душу других я всегда вторгаюсь словно светлый, всепожирающий огонь. Нет, я не успокоюсь, покуда вы не дадите мне полный отчет на словах в нашем прошлом и не постараетесь на будущее изменить свои сестринские помыслы, недоступные для других чувств. Иначе мне придется избегать вас именно в те мгновения, когда вы мне более всего нужны. Чудовищно, что я гублю с вами лучшие часы моей жизни. А ведь я согласился бы вырвать волос за волосом из собственной головы, только бы доставить вам счастье. Быть такой слепой! Такой черствой! Сжальтесь же надо мной!»