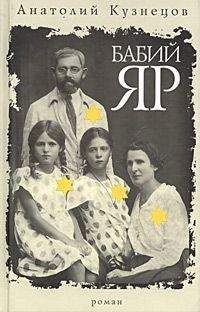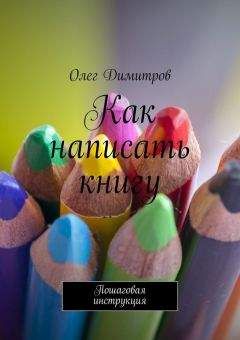Юлий Марголин - Путешествие в страну Зе-Ка
Работали втроем: Марголин, грузин Чикавани и западник, пинский еврей Клейман. Клали на козлы по несколько бревен разом и перепиливали вместе на метровые отрезки. Двое пилило сразу, стоя рядом. Клейман укладывал дрова, но имел еще особое задание. Всюду под снегом и в ямах лежали полусгнившие, невывезенные, погребенные штабеля напиленных дров. Найдя под снегом такой штабель, забытый с прошлого года, Клейман, улучив минуту, утаскивал чурок десять и приносил на наш штабель. Иногда завбиржей, проходя издалека, кричал ему: «Откуда дрова тащишь! Брось немедленно!» Тогда Клейман, в прекрасной шубе, с которой не расставался ни на миг, с маленьким лисьим лицом, ронял дрова и ждал, пока завбиржей пройдет. А мы с Чикавани пилили, не сходя с места, круглый день.
Из лагеря я вынес чувство уважения к грузинскому народу. Грузины отличались в общей массе з/к какой-то врожденной мягкостью и спокойствием, умели держать себя с достоинством, без дикости и свирепости, с гордостью старой культурной расы. Все эти черты были свойственны другу моему и брату Чикавани, одному из неизвестных мучеников этого народа, чей вклад в лагерную массовую могилу — один из самых высоких в Советском Союзе. Я сблизился с Чикавани уже на склоне его жизни. Он сидел в лагере уже 3 года, и оставалось ему больше, чем он мог вынести. Все в нем было утишено и смягчено предчувствием конца. Чикавани был только грузинский крестьянин, но он имел деликатность, великодушие в мелочах быта и благородство, которых мог бы себе пожелать английский лорд. Я любил этого человека. Быть вместе с ним — пилить стоя рядом — облегчало работу. И я любил слушать его рассказы, в которых оживал далекий и яркий мир южной кавказской страны, долины и горы Картвели, белый деревенский дом его матери, солнце, и виноградные лозы, и улицы Батуми над Черным морем.
Рассказов Чикавани хватило бы на целую книгу. Мы оба с ним тогда тосковали по родине, жили одной мыслью о ней. Я мечтал о том, что поеду когда-нибудь в мой край, Палестину, через Батуми — и мы оба будем тогда свободны. Но все сложилось иначе. — И грузинские слова, которым научил меня «Мегобаро Чикавани» — «друг мой Чикавани» — выпали из моей памяти.
Мы возвращались в полдень, километра за 3, и по дороге проходили места, где корчевали пни. Это — тяжелая работа, на которой иногда звену приходится потерять полдня над исполинским, особо упорным и глубокосидящим корнем. «Указчики» кишели вокруг пней. Едва окопаешь — и яма заполняется водой. Под водой надо откапывать, находить и перепиливать отроги корней, высвобождая пень, и, наконец, подвести под корень в одном или нескольких местах, как рычаги, длинные «ваги». Конец ваги, как оглобля, торчит кверху, и звено подымает его, выворачивая, вырывая, опрокидывая корень. Но иногда никакие усилия не помогают: значит, остался где-то внизу под корнем, куда не добраться ни топором, ни пилой — последний незамеченный отрог, и остается копать, все глубже копать, пока люди не уйдут по пояс в болото и в воду.
«Указчики», корчевавшие пни на 48 квадрате в ту весну — были молодые люди в возрасте 17–20 лет, которых взяли в лагеря по знаменитому указу летом 40-го года, направленному на изъятие недисциплинированной молодежи. Тогда по всей необъятной России суды получили задание прочесать железной метлой советскую молодежь и в кратчайший срок ликвидировать хулиганство. Метод полицейского воздействия здесь соответствовал точно методу «ликвидации вшивости в недельный срок» на нашем лагпункте. Летучие бригады тогда ликвидировали вшей, обходя бараки и проверяя рубашки у з/к. У кого находили вшей, того немедленно отправляли в баню. Хулиганство точно так же ликвидировали нарсуды — с помощью массовых отправок в лагеря всех, кто в то время имел несчастье попасться. Таким образом, накануне войны было сразу отправлено в лагеря на сроки в 1, 2 и 3 года около миллиона молодых людей.
«Указчики» выделялись среди массы советских з/к не только своими «детскими» сроками, но и всем своим типом: это были испуганные юнцы, которые в лагере растерялись и ужаснулись — привезенные прямо со школьной скамьи или с бульвара большого города, где они совершили свое преступление. Один напился и наскандалил в общественном месте. Другой вечером пристал к девушке, а та позвала милиционера. Третий на улице выругался по матери. Последних в особенности было много. Бытовые преступления этого рода как до указа, так и после указа, разумеется, не представляют редкости в Сов. Союзе. Итак, чтобы отучить молодежь от матерщины, которой они научились у взрослых, послали этих юнцов в лагерь, и там они только научились лексикону, который превосходил все, что они слышали дома, и могли убедиться, что без неслыханного по виртуозности сквернословия, проникающего во все поры мысли и сознания, не обходится в лагере ни один вольный, ни один начальник, включая и «воспитателя». В «исправительно-трудовом лагере» сломали им жизнь по-настоящему, с немилосердной и лютой жестокостью, терроризовали на всю жизнь и вписали им в документы отметку о пребывании в лагере, которая им в будущем отрезывала возможность нормального устройства. За что? — Каждый из них был повинен в мелком проступке, в основе которого лежало воспитание, данное советской улицей. Насколько молоды и легкомысленны они были, я мог убедиться, разговаривая с этими юнцами, которые еще помнили атмосферу родительского дома, говорили «мама» или «у нас дома на веранде качалка есть». В лагере смешали их с уголовными, с преступниками-рецидивистами, с урками и проститутками, и еще хуже — с совершенно невинными, ни за что погибающими массами, согнанными со всех сторон огромной страны — в том возрасте, когда этот опыт и эти впечатления должны были стать для них решающими. Среди тающих снегов я их видел сидящих у костра, дрожащих от холода, в лохмотьях, не покрывающих тела, в невыразимом состоянии: матери их кусали бы себе руки от отчаяния, если б могли их увидеть. Голод и лагерь сделал из них настоящих беспризорных. В тот полдень, идя мимо, я увидел: Витя, сын городского архитектора в областном городе Сев. Кавказа, 18-летний юноша, полунагой, весь в зловонной грязи, с черными руками и немытым лицом, набрал в карман бушлата гнилых селедочных головок из помойки лагерной кухни. Кто-то из старших з/к увидел эту гниль и силой заставил его выбросить в грязь эти вещи, которых и свинья не ела бы. Но не успел он отвернуться, как за его спиной произошло побоище: все указчики наперебой ринулись подбирать селедочные головы, с дракой и руганью вырывая их из рук друг у друга.
Весна шла, дороги были затоплены, и мы были отрезаны от нормального сообщения с Медвежегорском и Пяльмой. Доставка посылок прекратилась в марте, и в мае, чтобы прокормиться, я продал свои последние штаны из дому. Я ходил в казенных ватных брюках и в них же спал, не раздеваясь. В мае перевели нас работать «на карьер». Мы работали как бы на острове, окруженном водой болотной низины. На место работы мы пробирались по кладкам, и, теряя равновесие, падали в воду.