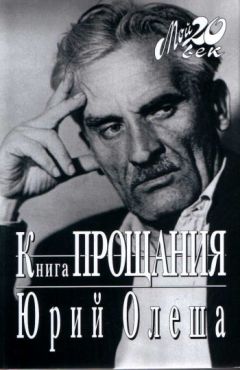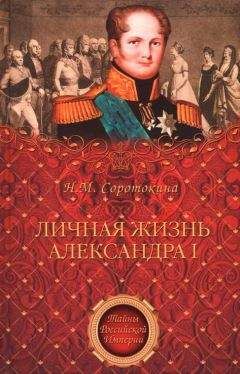Юрий Олеша - Книга прощания
Эта легендарность присуща самой личности. Может быть, она рождается от наружности? Скорее всего, рождается она в том случае, если в прошлом героя совершалось нечто поражающее умы. Горький пресекал эту славу («Что я вам — балерина?»)… Что ж, и никто из тех, кого я назвал, не заботился о ней специально, она сама шла за ними.
Он впервые предстал передо мной в виде силуэта, так как, когда я вошел в зал, он стоял спиной к окнам, за которыми заходило солнце.
В зале было много людей, и все курили. Дым прямо-таки целыми стадами ходил по залу, и эти голубоватые волны окутывали его высокую и, как теперь казалось мне, черную фигуру.
Меня вызвали из другого помещения специально для того, чтобы познакомить с ним, и поэтому, когда я вошел, раздались возгласы:
— Вот он! Вот! Это Олеша! Это он!
Кто-то взял меня за руку и повел по направлению к тому, стоявшему у окна.
В течение секунды он все еще был для меня силуэтом (впрочем, с замиранием сердца я и в силуэте узнал нечто давно известное, знаменитое — может быть, он в это время поднял руку, чтобы коснуться усов), но вот следующая секунда — и я вижу его уже во всех красках и объемах, каковое зрелище заставляет меня с особенной силой почувствовать, что моя жизнь есть именно путь: вот я подошел сейчас к утесу на этом пути. Тем убедительней для меня это ощущение, что стоящий передо мной высок, разноцветен и освещен солнцем.
«Так вот какой он!» — проносится у меня в мыслях.
— Так вот какой вы! — говорит Горький.
Недавно вышел мой роман «Зависть», сразу доставивший мне известность в литературных кругах. Известен я и Горькому, который прочел роман еще в Сорренто, как это я знаю из письма его к Валентину Катаеву.
Он смотрит на меня, подергивая ус. Что он видит? Про себя я знаю, что успех уже вскружил мне голову… Видит ли он это? Я начинаю думать, что видит, и мне делается стыдно. Однако это переживание, которое я сам оценивал в эти мгновения как благородное, я тут же загнал куда-то в глубь души и дал волю как раз противоположному переживанию: «Подумаешь, — говорил я себе, — Горький! Еще неизвестно, кто из нас пишет лучше!»
Наши взгляды встретились, и я увидел, что он смотрит на меня ласково. Чувство стыда залило меня, и этот стыд усиливался еще и от понимания мною того обстоятельства, что я, только что заносившийся против него, сейчас отдал бы жизнь за одно слово похвалы от него.
Этого особого слова не последовало. Он произнес несколько фраз вообще о молодых, о том, что вот, мол, как хорошо, что появляются молодые писатели. Представление меня Горькому, собственно, уже окончилось, собрание уже перешло, так сказать, к другому вопросу, а я все еще искал его взгляды…
Такова была моя первая встреча с Горьким, отравившая меня жГучей жаждой быть признанным этим человеком.
Вскоре после этого дня, однажды, когда я был у Валентина Катаева, он вдруг снял телефонную трубку и соединился с кем-то — с кем именно, я не знал, так как это началось, так сказать, вне сферы моего внимания.
— А можно и Олеше прийти? — услышал я. — Да, да, Олеша. Можно?
Оказалось, он говорил с Екатериной Пешковой, женой Горького, по поводу какого-то, как видно, ранее полученного приглашения (Катаев — так как он посетил Горького в Сорренто — был с ним на правах более короткого, чем, скажем, я, знакомства).
— Пойдем к Горькому. Там сегодня Леонид Леонов читает новую пьесу[123].
Горький жил в Машковом переулке, недалеко от Мыльникова переулка, где жил Катаев, — там же, на Чистых прудах. Просто чтобы войти в подъезд Горького, нам нужно было всего лишь оказаться по ту сторону дома, в котором мы находились. Кажется, пятый этаж — во всяком случае, высоко.
Нам открывают дверь, мы в коридоре — темном, только с тем светом, который падает из открытой в конце двери, — светом дня, так как еще день, хоть близкий к закату.
— Пожалуйста, — говорит кто-то сопровождающий нас по коридору, — да, да, сюда.
И вот комната в доме Горького, столовая. Первое, что мне бросается в глаза, это кружки колбасы на тарелке — той колбасы, которая теперь называется любительской. Я не ждал, разумеется, что нас встретят яствами, разукрашенными в перья и кружевную бумагу, но тарелка с колбасой, очень выразительная на белой скатерти, была совершенно неожиданной. И это было приятное мгновение: мысль о Горьком как о необыкновенном человеке перестала быть единственной о нем мыслью — я подумал о нем с простой человеческой симпатией, представив себе его дающим такое распоряжение, как «ну, купите колбасы».
Колбаса, гости пьют чай… Самого Горького в комнате нет. По тому, как ведется разговор — несколько напряженно и с часто наступающими паузами (какой-то бесполезный разговор!), понятно, что все думают именно об отсутствии Горького. Где же он? Тут же мне отвечает дверь, что он за нею, — высокая белая дверь, которую я вижу впервые в жизни, но о существовании которой давно знаю: это дверь рабочей комнаты писателя…
— Ничего, ничего, — отвечаю я двери, — я жду.
Я не помню, как он вышел, не помню, как здоровался с гостями, в том числе и со мной, — фигура его начинает жить в этом моем воспоминании с того момента, когда, уже обойдя всех, он стоит в пролете двери, на фоне видной, в этом пролете части комнаты, высокий, элегантно-костлявый, говорит о том, что только что читал «Тихий Дон» и как ему эта вещь нравится.
— Хорошо, — произносит он несколько раз, с особенной выразительностью показывая нам в этом слове свой выговор на «о». — Хорошо. Да, хорошо.
И даже, повторяя это «хорошо», каждый раз как-то мотает головой — так сильно в нем признание, что действительно «хорошо». Он спрашивает нас, не видел ли кто Шолохова, не знаком ли кто с ним? Ему отвечают, что это никому ранее не известный молодой человек, казак, проживающий в станице.
— Хорошо, — говорит он…
Кстати, и Маяковский никогда не кривлялся, не позировал. Я помню, как он однажды, увидев чье-то восторженно уставившееся на него лицо, сказал хоть и с юмором, но все же раздраженно:
— Смотрит на меня и что-то шепчет.
Мы видим во сне мертвых. Разве это не странно? Те, кого уже нет на свете, живут в наших сновидениях жизнью живых. Причем мы сами придумываем слова и поступки этим людям, жизнь которых окончилась и которые уже не могут произносить слова или совершать поступки. Мы как бы воскрешаем их, и они еще живут некоторое время, действуя так, как этого хочет наше работающее во сне сознание.
Мы не удивляемся, что они живут. Я не помню, чтобы, увидев во сне мертвого, я подумал, что это мертвый. Он ходит, разговаривает, и меня не охватывает страх. Все же какая-то тревожная мысль, что с этим человеком что-то случилось, закрадывается в душу с самого начала сновидения. Однако я никогда не знаю в сновидении, что это, случившееся с ним, есть смерть. Что-то случилось, в результате чего этот человек стал другим. А мертвые во сне всегда носят в себе некое изменение, которое нами воспринимается с раздирающей сердце грустью. Обычно это какой-то изъян, без которого никогда не снятся нам те, что умерли. Повторяю, мы воспринимаем этот изъян с необыкновенной грустью. Так наше сознание все же не мирится с тем, что во сне мы видим мертвых. Оно разрешает им ходить, разговаривать и общаться с нами, но все же оно видоизменяет сущность или физический облик этих, не имеющих права жить, людей, и это изменение, этот изъян их личности или внешнего вида так горестен для нас, что, воспринимая его, мы грустим во сне не меньше, чем грустили наяву, когда видели этих людей мертвыми.