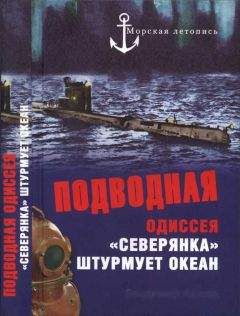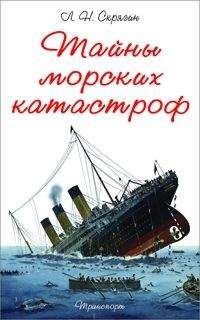Иван Бунин - Том 6. Публицистика. Воспоминания
К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.
«Где оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидал нынче?» — было первою его мыслью. «И страдания этого я не знал также», — подумал он. «Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?»
Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски…
Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами…
— Voila une belle mort[19], - сказал Наполеон, глядя на Болконского.
Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит это Наполеон… Но он слышал эти слова как бы он слышал жужжание мухи… Ему жгло голову, он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками… он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасной, потому что он так иначе понимал ее теперь…
Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожестве величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.
XVIII
И вот наконец второе и последнее «освобождение» князя Андрея.
— Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжении всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытал — почти понятное и ощущаемое…
Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшно-мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.
Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним (на Аустерлицком поле), и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо, и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.
Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни, и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая (без любви) стоит между жизнью и смертью.
Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные, и тревожные мысли стали приходить ему.
Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: это сделалось с ним[20], случилось с ним за два дня перед приездом княжны Марьи. Это была последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшеюся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.
Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.
«А, это она вошла!» — подумал он.
Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.
С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок.
«Могло или не могло быть?» — думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. «Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть? Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» — сказал он, и он вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.
Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.
— Вы не спите?
— Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли… Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины… того света. Мне так и хочется плакать от радости.
Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженною радостью.
— Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.
— А я? — Она отвернулась на мгновение. — Отчего же слишком? — сказала она.
— Отчего слишком? Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, буду я жив? Как вам кажется?
— Я уверена, я уверена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.
Он помолчал.
— Как бы хорошо! — И, взяв ее руку, он поцеловал ее.
…Скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.
Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.
«Любовь? Что такое любовь?» — думал он.
«Любовь не понимает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное — не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.
Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно[21]. Но в то же время, как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия — запереть уже нельзя — хоть удержать ее: но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным усилием дверь отворяется и опять затворяется.