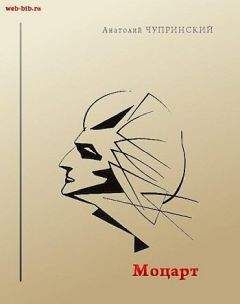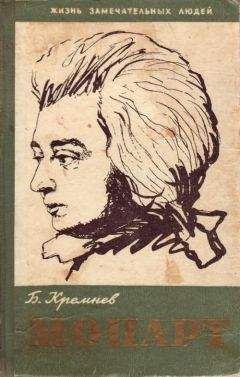Дмитрий Минченок - Дунаевский — красный Моцарт
— Мы тебя все встречаем, — с ходу полез целоваться Утёсов, — даже дождь. Как доехал?
Исаак сиял. Чемодан из его рук куда-то моментально уплыл. С него чуть не стянули плащ, но Утёсов на кого-то зашикал, и посягательство прекратилось. Потом какие-то люди стали выносить из купе баулы. Утёсов спрашивал, почему Дунаевский приехал один, без жены. Дунаевский слушал рассеянно, подозревая, что сейчас они поедут тратить деньги в какой-нибудь ресторан и Утёсов начнёт говорить о своих сердечных победах. Было видно, что Леонид настроился отдыхать.
Это, понимаешь, не каждый раз случается — должность музыкального руководителя. Цени момент! — убеждал Утёсов.
Подбежала девушка и сунула Дунаевскому цветы.
— Мне? Зачем? — смутился Дунаевский.
— Это вам, вам, — уверяла девушка.
— Да она, поди, вам покупала, — сказал Утёсову Дунаевский. — А вы её подговорили мне передарить.
Утёсов радостно засмеялся.
— Сейчас поедем. У нас уже есть свой транспорт, — показал Утёсов на извозчика. — На лошадь не обидишься? У ней на заду слово неприличное написано.
Все вещи моментально погрузили на коляску.
— Извозчик! — обратился Утёсов к стоящему у подъезда кучеру. — Если у тебя есть настроение, гони красиво, чтобы брызги летели. Едем в "Европейскую".
Вся толпа встречающих попыталась залезть в коляску, на платформе остались только два подозрительных типа с блокнотами в руках. Они подошли к коляске, заглянули Исааку в лицо, что-то черканули в своих книжках и отошли.
— Это кто такие? — спросил Дунаевский у Утёсова.
— Где, где? — завертел тот головой. — А-а, эти? Не знаю, — он страшно посмотрел на одного из них и поманил пальцем. Тот послушно подошёл. — Ты, братец, кто? — спросил он тоном короля в изгнании, строго глядя в глаза.
— Рабочий корреспондент, могу удостоверение показать. — И небритый молодой человек с помятым лицом полез в карман пальто.
— Не надо, — остановил его Утёсов. — Верю. Писать хочешь?
Молодой человек хмуро кивнул.
— Что же. Дело полезное. Пиши, только помни, лучше Бабеля всё равно не напишешь. — Довольный Утёсов захохотал, подсадил барышню в пролётку, затолкал туда же Дунаевского, легко вскочил сам и велел трогать.
Рабочие корреспонденты ещё несколько минут наблюдали за удаляющимися спинами именитых гостей. После чего углубились в блокноты, выясняя, куда ещё можно пойти кого-нибудь встретить, чтобы потом отписать свои пятьдесят строк гостевой хроники.
Всю дорогу Утёсов и Дунаевский говорили про женщин. Когда через много лет понадобилось описать эту встречу, Сараевой-Бондарь пришлось оперировать более нейтральными приметами. "Невский встретил Дунаевского перезвоном трамваев, броской рекламой кинотеатров, фотографий, сверкающих с витрин многочисленных магазинов.
— "Старое и новое" — что это? — спросил Дунаевский, проезжая мимо кинотеатра "Паризиана", где рекламировался новый фильм.
Пояснения на правах гида давал Утёсов:
— Во-первых, Дунечка, этот кинотеатр был моим первым, прибежищем. Когда я приезжал в Петроград, я выступал тут, и не без успеха, а фильм — работы Эйзенштейна".
Извозчик остановился у парадного подъезда "Европейской". Служащий гостиницы, выскочивший из подъезда, тут же подхватил чемоданы композитора и потащил их на второй этаж — в номер, который на длительное время стал для Дунаевского домом. Ленинград встретил Исаака подобострастно, встав на колени одноэтажных домов. Был ли это знак? Ленинград умел обманывать ожидания.
Дунаевский сначала заскучал в этом городе. Зина ещё оставалась в Москве. А если пытаться рассмотреть её в прекрасном далеке, взгляд всегда упирался в чью-нибудь стену — возникало ощущение мышеловки, а ещё этот психоделический переизбыток воды, который сокращает расстояние между трезвым рацио и шизофренией… В Ленинграде легко потерять голову — влюбиться, а потом изнывать от неразделённой любви, особенно если это любовь к городу. Дунаевский постепенно очаровывался.
Рядом с мюзик-холлом находились филармония, Русский музей, Малый оперный. "Европейская" была построена как настоящая крепость — с прекрасной планировкой комнат и высокими потолками, от которых Дунаевский успел отвыкнуть за годы скитаний по общежитиям. В номере штофные обои, портреты вождей на стенах. Впрочем, живопись не особенно занимала воображение Дунаевского. Он отдался невинному наслаждению сочинительства с удвоенной силой. Маэстро намеревался поразить своих новых коллег и соратников идеями. Каждый день он приходил с чем-нибудь новым. Утёсов радостно встречал Дунаевского в театре и поскорее уводил в какое-нибудь кафе строить воздушные замки, для которых ему всегда хватало стройматериала.
В театре Дунаевского встретили, как обычно встречают новичка. С долей любопытства и нахальства: ну-с, мол, чем вы нас удивите? Удивлял Дунаевский многим — прежде всего тем, что непрестанно курил, папиросу за папиросой. Был непоседой и постоянно спорил. Пропуская весь мир через сердце и уши, он в ответе на каждый вопрос находил что-то своё, индивидуальное. Это удивляло окружающих. Иных раздражало.
Как музыкальному руководителю мюзик-холла Дунаевскому полагался собственный кабинет. Это помещение ему отвели, переделав бывшую гримёрную. Став кабинетом композитора, комната по-прежнему привлекала к себе артистов. Дунаевскому поставили два шкафа, диван, обитый кожей, и повесили на стенку старый календарь. Одним из первых к нему пожаловал Николай Черкасов, чей несколько гнусавый баритон сразу выдавал большой талант, как червячок служит признаком по настоящему спелого яблока.
Довольно быстро Дунаевский позабыл московские тяготы. Он даже с некоторым вздохом вспоминал последние тяжёлые столичные месяцы, сожалея, что не поборол горлопанов и позволил себя съесть. "Московская зима" в Ленинграде не казалась такой уж тяжёлой. Чтобы потешить самолюбие, Дунаевский в разговорах с новыми друзьями и знакомыми прохаживался "асфальтоукладочным катком" по адресу многих своих рапмовских хулителей. Как ни странно, это действовало умиротворяюще: враждебное отношение ко многим из них улетучивалось от количества злословия в их адрес. А злословить Дунаевский умел.
Зина была настоящим ангелом. Послушно ожидала сигнала мужа отправиться в Ленинград. А пока Дунаевский вёл холостую жизнь… Денег у него не было, но не было и долгов. Кроме того, директор Даниил Грач исправно выполнял свои обещания — за гостиницу платил театр. В общем, когда пламя московских обид угасло, Дунаевскому стали смешны былые страхи Он слушал замыслы своих новых знакомых, и в сердце у него рождались мелодии. Дунаевский говорил о том, что надо переделывать природу, общество, сознание людей, даже их физический облик. В то время только входили в моду марши по главным площадям советских городов полуобнажённых красавиц и красавцев в спортивных трусах, с прекрасными фигурами, излучавшими не секс-эппил, а партийный лозунг. Телесная красота была свидетелем железного здоровья, а железное здоровье порождало здоровый оптимизм.