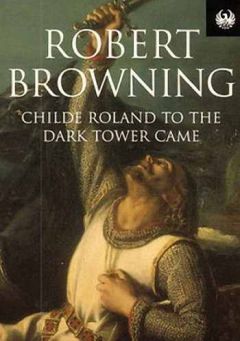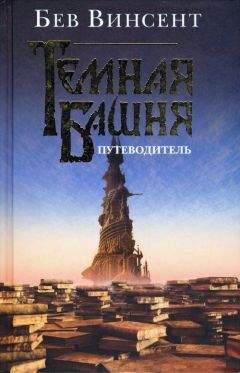Этти Хиллесум - Я никогда и нигде не умру
Четверг [9 июля 1942], 9.30 утра. Нужно снова забыть такие слова, как Бог, Смерть, Горе, Вечность. Нужно снова, как проросшее зерно или падающий дождь, стать простым и бессловесным. Только быть.
Действительно ли я полностью честна перед собой, когда говорю: «Надеюсь, я поеду в трудовой лагерь, чтобы помогать шестнадцатилетним девочкам»?
Говорю для того, чтобы с самого начала сказать остающимся здесь родителям: «Не волнуйтесь, я буду присматривать за вашими детьми».
Когда, обращаясь к другим, я говорю, что бежать и прятаться нет вообще никакого смысла, что нет иного выхода, что мы должны идти со всеми и пытаться, как только можем, помогать другим, — в этом слышится слишком сильная покорность судьбе. Звучит что-то, что я вовсе не имею в виду. Не могу еще найти верный тон для моего цельного, светлого, включающего в себя и страдания и жестокость чувства. Говорю неуклюжим языком философии, будто для облегчения собственной жизни придумала утешительную теорию. Пока что мне бы научиться молчать и всего лишь быть.
Пятница [10 июля 1942], утро. Вот, извольте, один раз — Гитлер, другой — Иван Грозный, один раз — безропотное смирение, другой — войны, чума, землетрясение или голод. Решающим в итоге является то, как справляться с бедами, столь важными в этой жизни. Как их внутренне переработать, чтобы, пройдя через все, спасти неповрежденный кусочек своей души.
Позже. Обдумываю, ломаю голову над тем, как в такой короткий срок покончить с гнетущими повседневными заботами, но они, как застрявший в глотке ком, при каждом вдохе причиняют мне боль. Подсчитываешь, ищешь, прерываешь на какое-то время занятия, ходишь туда-сюда по комнате, кроме того, еще болит живот и т. д. И вдруг в тебе снова возникает уверенность: когда-нибудь, если я все переживу, я буду об этом времени писать истории, буду выводить их тонкими штрихами, выделяющимися на огромном безмолвном фоне Бога, Жизни, Смерти, Горя и Вечности. Иногда, как вредные насекомые, на нас нападают беспокойства. Ну да, тогда немного расчесываешь себя, хотя при этом слезает кожа, а затем все с себя стряхиваешь. Время, на которое я могу еще здесь остаться, рассматриваю как особый подарок, небольшой отпуск. В последние дни я прохожу сквозь жизнь, словно несу в себе фотопластинку, вплоть до последних подробностей безошибочно запечатлевшую все, что окружает меня. Я это осознаю, все проникает в меня четкими контурами. Позже, наверное, много позже, я все это однажды проявлю и отпечатаю. Чтобы найти новый язык, соответствующий новому ощущению жизни. Пока он не будет найден, ты должен молчать. И все же молчать невозможно, это тоже было бы бегством, нужно пытаться искать его, разговаривая. Переход от старого языка к новому тоже должен пройти все стадии.
Тяжелый, очень тяжелый день. Нужно, исключив все детские, личные желания, учиться нести вместе со всеми нашу массовую судьбу. Любой человек хотел бы спастись, и все же каждый из нас должен знать, что, если пойдет не он, на его месте будет кто-то другой. Получается то же самое: либо я, либо другой, этот или тот. Теперь это стало массовой судьбой, и это должно быть ясно. Очень тяжелый день. Но я всегда заново оживаю в молитве. А это я смогу делать всегда, смогу молиться даже в крошечном помещении. И ту часть массовой судьбы, которую буду в состоянии нести, я, как узел, еще крепче и сильнее притяну к своей спине и срастусь с ней. Я уже сейчас иду с ней по улицам.
А этой тоненькой авторучкой я должна была бы замахнуться, как молотом, и слова так же, как удары молота, сообщали бы всем о нашей судьбе, о куске истории, какой прежде никогда не бывало. По крайней мере — в такой тотальной, организованной, охватившей всю Европу форме. И все же, чтобы когда-нибудь отразить хронику этого времени, должны выжить несколько человек. Я бы охотно стала скромным, маленьким летописцем.
Его дрожащий рот, когда он говорил: «По всей вероятности, Адри и Дикки больше нельзя приносить мне еду».
11 июля 1942 года, суббота, 11 часов утра. О важных, серьезнейших жизненных вещах на самом деле можно говорить только тогда, когда слова так просто и естественно выбиваются на поверхность, как вода из источника.
И если Бог перестанет мне помогать, тогда я должна буду помочь ему. Вся Земля постепенно становится одним сплошным лагерем, избежать которого удастся лишь немногим. Мы должны пройти через эту фазу. Здесь евреи рассказывают друг другу милые вещи о том, что в Германии людей замуровывают или уничтожают ядовитым газом. Не очень разумно пересказывать подобные истории, а кроме того, ну должно же это в какой-то форме происходить. Но хоть на сей раз это уже не наша ответственность?
Со вчерашнего вечера льет почти как при всемирном потопе. Я освободила уже один ящик моего письменного стола. Нашла его фотографию, которую почти год назад куда-то засунула, но была уверена, что найду. И вот она — на дне захламленного ящика. Для меня это типично, о некоторых маленьких или больших вещах заранее знать, что с ними все будет в порядке. Особенно это касается материальных вещей. Я никогда не беспокоюсь о следующем дне. Знаю, например, что вскоре должна буду отсюда уйти, и не имею даже слабого представления о том, куда отправлюсь. И с зарабатыванием денег все выглядит очень плохо, но о себе самой я никогда не волнуюсь, знаю, что каким-то образом утрясется. Если будущие события заранее нагружать беспокойством, они не смогут органично развиваться. Во мне живет большая вера. Я верю не в то, что в моей внешней жизни все будет хорошо, а в то, что и тогда, когда будет плохо, я всегда буду принимать жизнь и видеть в ней хорошее.
Ловлю себя на том, что и в мелочах я тоже готовлю себя к трудовому лагерю. Вчера вечером гуляла с ним по набережной. Надела удобные сандалии и тут же подумала, что возьму их с собой, чтобы периодически чередовать с тяжелыми ботинками. Что же сейчас во мне происходит? Откуда эта легкая, почти резвая радость? Вчера был трудный, очень трудный день, было много выстрадано, много внутренне переработано. И все это я преодолела и сегодня могу вынести больше, чем вчера. Каждый раз я заново знаю, что со всем справлюсь, справлюсь одна, и при этом мое сердце не очерствеет от горечи. Знаю, что и мгновения глубочайшей печали, отчаянья, оставив во мне плодотворный след, сделают меня крепче. Вероятно, именно это дает мне ощущение внутренней радости и покоя. Я полностью отдаю себе отчет в реальности обстоятельств и даже не претендую на помощь другим людям. Я всегда буду стараться, насколько это получится, хорошо помогать Господу, и если мне это удастся, ну, тогда удастся и с другими. Но не надо по этому поводу строить никаких героических иллюзий.