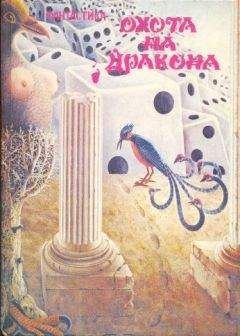Евгений Ухналев - Это мое
В общей сложности во Дворце молодежи у нас состоялось, кажется, четыре выставки. Но каждый из нас был ограничен очень небольшим количеством вещей — три небольшие, а то и две. Люди приходили, смотрели, спорили. В результате у нас возникла своеобразная группа — тринадцать художников. И мы таким постоянным составом провели несколько выставок. Например, была «Выставка тринадцати» в том же Дворце молодежи. То есть не сказать, что у нас были какие-то по-настоящему серьезные проблемы с Советской властью — во всяком случае, бульдозерами нас не давили. Но «Бульдозерную выставку», естественно, все обсуждали — все знали, что мерзавцы давили бульдозерами картины, хотя никто ничего другого не ожидал. Но в Ленинграде таких скандалов не было. Периодически кто-то предлагал устроить выставку в парке, в какой-нибудь подворотне или еще где-то, но я всегда отказывался. И не из гордыни, просто я чувствовал, что те, кто понесет свои работы на такую выставку, проявят неуважение к своим работам, потому что негоже выставляться под дождем. Кроме того, меня, честно говоря, не устраивал уровень соседства. Хотя, может быть, это и есть гордыня. Но я очень бережно отношусь к своим работам и предпочитаю или совсем не выставляться, или выставляться там, где все получится достойно. При этом не могу объяснить, почему у меня не было никаких отношений с Пушкинской, io, — это же была наша компания, и меня туда пару раз звали, но как-то не сложилось. Хотя отношения у нас были совершенно нормальные, приятельские.
Меня довольно часто звали и зовут куда-то выставляться, но вот еще какая штука: есть неписаный закон, по которому ты после выставки должен какую-то работу оставить. А мне не стыдно признаться в том, что жалко, потому что я в прямом смысле отношусь к своим работам как к детям.
Где-то в середине 1980-х был у меня интересный случай с Русским музеем, который взял у меня восемь работ на закупку. А по тем временам мои картины находились или у меня, или по знакомым. Я прекрасно понимал, что цены, которые предложит Русский музей, будут чисто символическими, но все же Русский музей. В результате они взяли картины и, невзирая ни на какие звонки и увещевания, продержали их у себя четыре года и четыре месяца, не заплатив мне ни копейки. И говорили: «Многие художники за честь почитают попасть к нам безо всяких денег!» И это правда, многие художники приносили свои работы в дар, то есть писали дарственную, и музею ничего не оставалось, потому что дарственная — она дарственная и есть. Но у меня-то они сами попросили.
Когда в 2001 году в Эрмитаже сделали мою выставку, 16 работ, я взял те работы из Русского музея. «Но вы же нам их принесете?» — «Да, конечно…» И не отдал. Так что в Русском музее моих работ нет, ни одной. Ну и ладно, зато в Эрмитаже есть. Пиотровский деликатно попросил: «Евгений Ильич, ну вы же знаете про эту неписаную традицию, к тому же все-таки Эрмитаж…» И я завертелся, как уж на сковородке. Выставка-то была хорошая, юбилейная, к моему 70-летию. И все равно жалко. Я думаю — ту дать, или ту, или ту. Эрмитажники говорят: «Эту давай». А я дал другую, но такую, чтобы нельзя было придраться, — на ней изображен один из сумрачных эрмитажных дворов. К тому же Михаил Борисович выдвинул важный аргумент: «Вы же не хотите уподобляться Шемякину. Вот мы выставку Шемякина сделали и по таким же неписаным правилам к нему обратились, а он ничего не дал». А я, конечно, не хотел уподобляться.
Но еще раньше, в 1988 году, на меня вышел Музей Достоевского, незадолго до этого появившийся. Директором там была Белла Нуриевна Рыбалко, через несколько лет она была вынуждена уйти из-за какого-то внутреннего музейного конфликта и стала хозяйкой музея Смольного собора. А тогда, в 1988-м, они предложили мне сделать мою первую персональную выставку. И потом говорили, что с моей легкой руки у них пошли выставки, что я проложил дорогу. Получилась очень хорошая, многолюдная выставка, я до сих пор благодарен музею и лично Белле Нуриевне.
А несколько лет назад прошел слушок: есть некая женщина, которая хочет организовать в Санкт-Петербурге частный музей современного искусства, и будто бы она хорошо платит. Называли суммы, большие. Потом я встретился с ее представителями. Они меня долго уламывали, потом приезжали мои знакомые, которые начинали работать в этом музее, тоже уламывали. А я отвечал: «Не хочу, и все!» Наконец приехала сама хозяйка, и я понял, что у нее действительно есть настоящий вкус, что это не просто так. Потом вынула лист бумаги, написала на нем что-то и сказала: «Позже посмотрите». И ушла. Я посмотрел — цены раза в четыре выше тех, о которых я думал. Я ей сразу позвонил и согласился. И правильно сделал — дело не в деньгах, просто у них нет запасников, у них все висит. И вообще, музей получился великолепным, идеальное освещение и так далее. Он правильно устроен, там хорошая коллекция, и даже то замечательно, что в нем отсутствуют лишние помещения, которые можно было бы использовать как запасники, — очень хорошо, что там все висит на стенах. И все это благодаря вкусу владелицы. Теперь я думаю про картины, которые у меня стоят дома, прислоненные к стенке, — лучше бы они висели там. Потому что большинство наших музеев — это кладбища, гробницы, а у нее все не так, у нее все правильно сделано.
Один из первых критиков моих работ всегда Наташа. Она всегда выступает честно и при этом часто хвалит, что приятно. Но я, конечно, все равно все делаю по-своему. Честно говоря, никогда особо не прислушивался к критике. Единственное — был в Эрмитаже гениальнейший человек Борька Зернов, Борис Алексеевич, один из ведущих, настоящих знатоков искусства. В основном он специализировался по немецкой и французской графике, но его кругозор был значительно шире. Он никогда не наводил никакой критики, но я всегда ясно видел, нравится ему моя работа или нет. Я всегда смеялся над ним: «Ты хвалишь мою картину, потому что на столе лежит хорошая ветчина и стоит бутылка коньяка». Но всегда с трепетом относился к его мнению. И второй для меня авторитет — Николай Иннокентьевич Благодатов. По образованию он инженер, никак не связан с искусством, но его знает весь петербургский художественный мир, и он знает этот мир. Уникальный человек с большим вкусом, со своим видением, с которым я во многом не соглашаюсь, но это неважно. Замечательный человек, уважаемый — почти на каждой выставке встречаются его портреты. Его мнение мне очень важно — другое дело, что по-настоящему я его послушался, может быть, только раз в жизни. Это касается моего висящего в «Эрарте» паровозика — картины «Зона (по Тарковскому)». А дело было так. Когда-то мы с Благодатовым жили недалеко друг от друга, он часто ходил в булочную и молочный магазин, проходил мимо моих окон, я его видел и звал к себе на сигаретку, так что он наблюдал процесс создания многих моих работ. Однажды он зашел, когда я как раз начинал делать тот самый паровозик. Картина предполагалась темной, мрачной, дождливой, и у меня было очень хорошо проработано небо, по которому я хотел еще пройтись цветом. А зашедший на сигаретку Благодатов воскликнул: «О, что ж это, Евгений Ильич! Умоляю, оставьте как есть, пускай будет монохромная вещь». Я послушался и не жалею. А больше никогда не слушался, хотя он довольно много делал умных замечаний — не едких, без злости и без ехидства. Но не могу, знаю, что прав, но не могу переделывать свои вещи, не умею. Как только я подписал работу — значит, все, конец работе. И еще одна важная штука — Благодатову принадлежит коротенькая фраза, которую я когда-то взял себе на вооружение. Он как-то зашел, посмотрел на какую-то мою вещь и сказал: «Да, нерв есть». И я с тех пор сам стал себя оценивать на наличие этого нерва. Если нерва нет — значит, не получается работа. Я ее откладываю — или на время, или навсегда. Но если нерва нет — значит, ничего не получается.