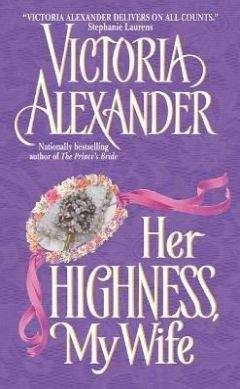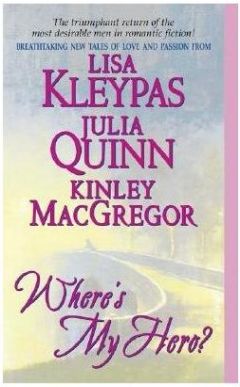Николай Павленко - Петр II
В донесениях иностранных дипломатов часто сообщается, что Петр «действует исключительно по своему усмотрению»; что он «делает, что хочет; что никто не смеет ни говорить ему ни о чем, ни советовать». Сфера интересов императора ограничивалась охотой и женщинами, и он оживлялся только тогда, когда заходила речь о породах собак, об охотничьих трофеях, о сноровке егерей или о любовных утехах. «Царь только и участвует в разговорах о собаках, лошадях, охоте; слушает всякий вздор, хочет жить в сельском уединении; о чем-нибудь другом и знать не хочет», — доносил Лефорт 14 ноября 1839 года.[133]
Гадать о том, сумел бы Петр преодолеть эти страсти и стать добродетельным государем, бессмысленно, хотя некоторые признаки его исправления, правда слабые, все же имеются. Так, как мы помним, он велел раздать приближенным свою псарню — однако это не помешало ему по-прежнему убивать время на охоте. В последние недели жизни царь, по свидетельству Братислава, увлекся музыкой, стал прилежно упражняться на виолончели и после нескольких уроков мог исполнять два менуэта. Но и страсть к музыке, если бы она даже стала устойчивой, не дает оснований усмотреть в ней задатки государственного деятеля.
Какие-то акции государственного характера Петр II все же принимал. Но и их трудно занести ему в актив. Важнейшим следствием пребывания Петра II на престоле можно признать длительное пребывание двора в Москве. После коронации юный император не торопился возвращаться в Северную столицу. В связи с этим возникла опасность того, что Петербург лишится статуса столицы империи и придет в упадок. На перенесении столицы обратно в Москву настаивали вельможи, чьи имения были расположены в центре Европейской России. Они испытывали большие неудобства от того, что Петр Великий объявил Петербург столицей страны. В Москве были лучше климат, почва; новая же столица, как известно, была подвержена наводнениям.
Но сам Петр в этом вопросе отнюдь не руководствовался государственным интересом. Москва и окрестности привлекали его прежде всего обилием дичи всякого рода и возможностью удовлетворить свою страсть к охоте.
Еще об одном эпизоде, свидетельствующем хоть о каком-то интересе императора к государственным делам, упомянул Маньян. Правда, эпизод этот носит частный характер: летом 1729 года царь устроил смотр для двух гвардейских полков. Солдаты выполняли команды так дурно, что Петр, «разгневавшись, удалился внезапно, не ожидая конца смотра».
Сказанное выше позволяет сделать несколько выводов. Важнейший из них следующий. Петр II вкусил силу власти гораздо раньше, чем у него появилась возможность понять, как следует распоряжаться этой властью. В этом, как это ни покажется парадоксальным, виноват прежде всего Остерман. Это он внушил Петру мысль свалить Меншикова, то есть совершить акцию, равнозначную дворцовому перевороту. Падение же Меншикова означало, что не осталось ни одного человека, способного хоть как-то влиять на императора-отрока. Еще больше укрепила у отрока мысль о вседозволенности коронация. Правда, вседозволенность эта не успела реализоваться в акциях государственного значения и ограничивалась поступками, относящимися к бытовой сфере жизни двора.
Ну а в дальнейшем вина за то, что ублажались любые капризы отрока, в том числе не свойственные его юному возрасту, целиком и полностью лежит на сыне и отце Долгоруких. Впрочем, они, по большому счету, лишь продолжили то, что начал Меншиков. Его затея с помолвкой императора, которому не исполнилось и двенадцати лет, должна была превратить малолетнего главу государства в фактическую марионетку в его руках. У Меншикова это не получилось. Не получилось, как мы увидим, и у Долгоруких.
Глава восьмая
Вторая несостоявшаяся женитьба
С падением Меншикова Петр II освободился от жесткой опеки светлейшего. Но обрести независимость от взрослых, самостоятельность в поступках и суждениях он, разумеется, не мог. Его воспитателем оставался А. И. Остерман, но и влияние Остермана на императора с каждым днем ослабевало в пользу фаворита Ивана Долгорукого, а затем его отца князя Алексея Григорьевича.
Как мы уже говорили, влияние Долгоруких совершенно не походило на влияние Меншикова. Самородку Меншикову алчность и беспредельное честолюбие не мешали быть государственным деятелем, вполне понимавшим необходимость дать наследнику трона должное воспитание и образование. У ограниченного князя Алексея, напротив, интерес к судьбе императора не простирался далее использования своего влияния для личной корысти. Влияние Долгоруких опиралось лишь на удовлетворение капризов своенравного отрока и поощрение его нездоровых наклонностей.
«Князь Алексей, — делился своим впечатлением с испанским двором де Лириа, — человек недальновидный, и его глупость простирается до того, что он завидует царской милости к сыну и желает его падения, чтобы в милость царя попал другой (его сын. — 77. 77.)». Ссоры отца с сыном, видимо, носили перманентный характер — за размолвкой наступало перемирие, сменявшееся новой вспышкой неприязни. Процитированный выше текст заимствован из депеши де Лириа, датированной 21 июня 1729 года. Французский посол Маньян отправил донесение в феврале следующего года и тоже отметил ссору между отцом и сыном Долгорукими: царский любимец «поссорился недавно с своим отцом». Яблоком раздора оказался Остерман. «Князь Иван Долгорукий, фаворит царя… есть враг Остермана, а отец его, князь Алексей, слепой друг барона и думает, что нет другого человека в мире такого умника, как Остерман». Между тем князь Иван находился в крайней вражде с Остерманом: обе стороны «поклялись не успокоиться до тех пор, пока один из них не будет уничтожен» — такие намерения, согласно донесению Лефорта, они высказывали еще в октябре 1727 года.
Хотя интеллектуальный потенциал Долгоруких резко отличался от потенциала Меншикова, они добивались одинаковой цели — выдать замуж одну из своих дочерей за императора. Но условия, которыми они располагали для достижения этой цели, существенно отличались. Формально Александр Данилович стоял как бы в стороне от матримониальных дел царствующей династии — они были определены «Тестаментом» Екатерины I, обязывавшей наследника престола жениться на одной из дочерей Меншикова. Следовательно, Меншиков всего лишь выполнял волю скончавшейся императрицы, объявленную 7 мая 1727 года.
Перед Алексеем Долгоруким стояла более сложная задача — ему самому надлежало уговорить императора жениться на одной из своих дочерей. Более того, Алексею Долгорукому надлежало добиваться одобрения этого брака со стороны вельмож, что оказалось непосильной задачей. Тем более что князь действовал прямолинейно и грубо, чем вызывал зависть и ненависть правящей элиты. 8 мая 1729 года Маньян доносил: «Начинают слышаться жалобы на высокомерных Долгоруких, которые удаляют всех, кто приглянулся царю».[134] Задача усложнялась еще и тем, что император взрослел, проявлял больше строптивости и самостоятельности; следовательно, требовалось больше усилий и времени, чтобы достичь желаемого результата.