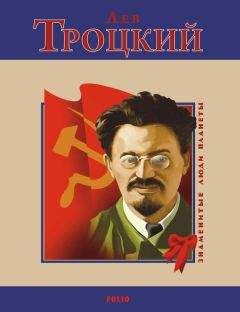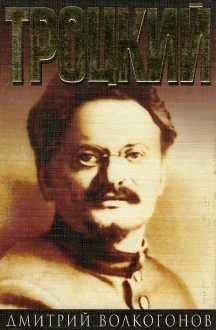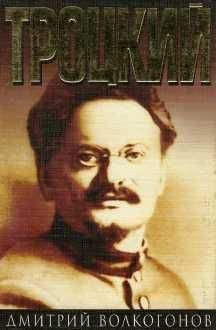Юлия Гиппенрейтер - Родителям: как быть ребенком
На перекрестке, возле нашего дома, был милицейский пост. Там, на возвышении, целый день стоял постовой. В этом, конечно, была необходимость, так как улица наша была оживленной — было много транспорта, пешеходов. Да еще машины и телеги выезжали из переулка. Необходимо было всем этим управлять, и постовой успешно это делал. Я могла часами наблюдать из окна или стоя на улице у подъезда, как одному движению его руки повинуются и громоздкие трамваи, и машины, и извозчики, и пешеходы. Мне он казался таким могущественным! И он всегда был в центре внимания — все на него смотрели, все видели, какую важную работу он выполняет. Вот, если бы папа был милиционером! Стоял бы он на посту, все бы на него смотрели! А я бы гордилась им… Я бы даже могла к нему подойти и постоять рядом с ним на посту… И все ребята видели бы…
Однажды я даже познакомилась с одним из постовых, когда он сдал свой пост другому и направлялся, вероятно, домой. Мы с ним дружески поговорили, он спросил меня о том, где работает мой папа, а мне, увы, похвастаться было нечем: я честно призналась ему, что папа работает за столом, он пишет. Милиционер покачал головой — то ли одобрительно, то ли сочувственно. С той поры мы всегда с ним здоровались.
И вот как-то, после того, как я очередной раз наблюдала из окна за его триумфом, когда вся улица жила по движению его руки, я не выдержала и пошла к папе. Он работал. Я не окликнула его, а остановилась у стола и стала ждать, когда он меня заметит. Обычно папа чувствовал, что ли, мое присутствие и оборачивался ко мне. Так было и в этот раз. Дождавшись, когда он заметит меня, я подошла к нему вплотную. Он понял, что мне надо поговорить с ним, и положил ручку, которой писал. Тогда я сказала ему, что мне не нравится его работа: «Все время пишешь, да пишешь. Что это за работа? Вот если бы ты был милиционер, — мечтательно сказала я, — ты бы стоял на посту, и все бы вокруг видели, какую важную работу ты делаешь!» Мама рассмеялась и сказала что-то, из чего я могла заключить, что такая радужная перспектива ее не увлекает. Папа же был абсолютно серьезен. Он наклонился ко мне, взял за плечи и, немного склонив голову набок, сказал: «Конечно, милиционер выполняет очень важную и ответственную работу. Трудно даже представить, что было бы на улице без него… Но ведь, понимаешь ли, бывает и другая важная работа — и водить трамваи, и лечить людей, и учить детей — тоже очень важно и необходимо. Это тоже должен кто-то делать… Всякая работа, которая нужна людям, важна». — «И твоя работа — тоже важная?» — с недоверием спросила я. Папа немного помедлил и уверенно ответил: «Мне представляется, очень… Да, то, что я делаю, тоже важно людям».
Помню, помимо всего, меня удивило в этом разговоре и то, что папа, как мне показалось, нисколько не завидует ни милиционеру, ни его могуществу, ни его популярности. Мне это было просто непонятно. Я вздохнула и отошла от него. Приходилось примириться с тем, что папа никогда не будет милиционером.
«Мы с папой работали за одним столом»
Папа очень серьезно и с огромным уважением относился к моим школьным обязанностям. Так, для моих занятий он отвел мне место за своим столом. Он специально освободил для меня половину своего письменного стола, чтобы я могла спокойно, без помех заниматься. Я была чрезвычайно горда тем обстоятельством, что мы с папой работали за одним столом и иногда даже одновременно.
В тот год я особенно пристрастилась к чтению и стала меньше играть. Это папу огорчало. Он не раз сетовал по этому поводу, спрашивал, почему так редко ко мне приходят играть ребята, почему мало играю сама. Его душевная тонкость проявлялась и в том, как он относился к моей реакции на читаемое. Помню, застав меня в слезах над «Маленьким оборвышем» Гринвуда, он не стал говорить мне, что это выдумка, что на самом деле этого не было, а потому не стоит плакать. Присев ко мне и обняв меня, он просто вместе со мной посочувствовал герою. Когда я читала о приключениях Тома Сойера и Гекельберри Финна, порой мне было страшно, и папа всегда находил какие-то слова, которые успокаивали меня, но тем не менее не разрушали создаваемые воображением картины.
Под влиянием школы и чтения у меня родились новые планы на будущее. И, конечно, я пошла поделиться ими с отцом. «Я хочу быть учительницей, писателем и художником. Как мне быть?» Папа серьезно отнесся к моей новой мечте и посоветовал и рисовать, и писать, и заниматься с Асей как с ученицей. А потом посмотреть, к чему душа больше лежит, что лучше будет получаться. Некоторое время спустя, начитавшись Сетон-Томпсона, я снова вернулась в разговоре с папой к своему будущему. «Знаешь, я решила, что буду одновременно и учить детей, и писать книги, и делать к ним рисунки. Ведь Сетон-Томпсон не только писал, но и сам делал рисунки к своим книгам. Я буду учительницей, буду писать книги о ребятах и сама буду рисовать для них». Папа даже не улыбнулся, выслушав мою грандиозную жизненную программу. Он только сказал мне, что все в жизни нужно стараться делать очень хорошо. А делать очень хорошо сразу несколько таких ответственных дел, по его мнению, очень трудно. Для каждого из них нужно долго и упорно учиться. Но если у меня получится то, что я задумала, то он, конечно, будет рад и готов мне помочь, если мне понадобится его помощь. Он не позволил себе ни малейшей иронии, не лишил мечты, не убил ее.
«Можно! Конечно, можно!.. Иди за ребятами»
Мне кажется, что наукой отец занимался всегда, каждую минуту своей жизни, что бы он ни делал, а не только тогда, когда сидел за письменным столом. Условия для работы у него были очень трудные, а точнее — никаких условий для работы не было. Судите сами. Жили мы вчетвером в одной комнате. В комнате было тесно: по стенам стояли книжные шкафы и стеллажи с книгами с пола до потолка, вдоль окон — большой письменный стол отца, кровать родителей, мой диванчик и Асина кровать. Свободным оставалось лишь небольшое пространство в центре комнаты. Вот его-то мы и использовали для игр. При этом, играя, мы располагали наши игрушки так, что некоторые из них были вплотную придвинуты к письменному столу, за которым работал папа. И все же он умудрялся ежедневно по много часов проводить за столом, и не просто проводить, а напряженно работая. Казалось, ничто не мешало ему работать — ни разговоры рядом, ни наши игры и возня на полу. Он никогда не требовал тишины, не делал замечаний. Мне думается, работа целиком поглощала его, настолько увлекала, что порой он и не замечал того, что происходит вокруг. Вероятно, из-за этого он мог иногда и невпопад ответить. Так мама рассказывала, что однажды оставила меня, еще маленькую, с ним. Он работал, а я играла рядом. Потом мне зачем-то понадобилась бумага, и я обратилась к нему: «Папа, мне нужна бумага». — «В каком смысле?» — спросил он, не в силах оторваться от работы. «В белом», — ответила я. Мой ответ сразу вернул его на землю, он очень смеялся. Кажется, он это тоже использовал в одной из своих работ. Он был очень непритязателен, скромен и никогда не требовал для себя особых условий, никогда никого не стеснял, не ущемлял. Ребята со двора очень любили приходить к нам играть. Частенько они говорили мне: «Пойди спроси, можно к вам?» Очень ярко помню, как вхожу в комнату, вижу склоненную над столом фигуру отца и, стараясь не шуметь, спрашиваю у мамы: «Мама, ребята спрашивают…». Дальше говорить мне не удается, так как быстро, резко повернувшись ко мне, папа отвечает: «Можно! Конечно, можно!» Смотрю на маму, она с сомнением качает головой. Не знаю, как быть, но на помощь мне снова приходит папа: «Можно! Чего же ты ждешь?! Ведь ко мне приходят товарищи. Было бы ужасно, было бы несправедливо, если бы к тебе не могли прийти. Иди за ребятами». Так быстро решается этот вопрос. Это повторялось многократно. И потом, когда мы уже играем тут же, рядом с ним, он время от времени оборачивается к нам, смотрит, улыбаясь, на нас и снова погружается в работу. Приходится лишь удивляться, как, работая в таких условиях, он успел столько написать.