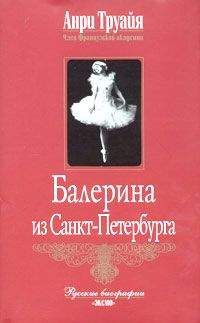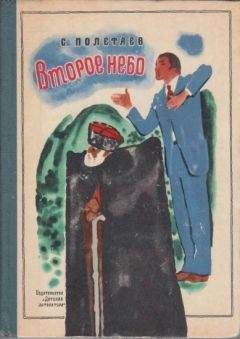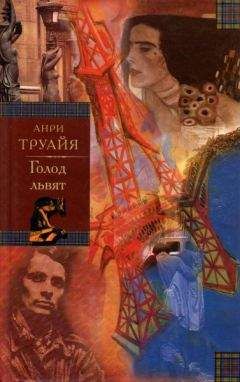Анри Труайя - Грозные царицы
Французы продолжали разочаровывать Елизавету, и она утешалась тем, что, на свой лад, подражала моде той страны, которой восхищалась, несмотря на то, как себя проявляли ее официальные представители. Увлечение Францией выражалось в бурной страсти к нарядам, драгоценностям, безделушкам, манере говорить, носившим отпечаток «парижского». В посвященной дочери Петра Великого книге Казимира Валишевского так рассказывается об этом:
«Всяким модам свойственно подвергаться преувеличению, переступая через границы. У Елизаветы страсть к нарядам и к уходу за своей красотой граничила с безумием. Долгое время вынужденная стеснять себя в этом отношении по экономическим соображениям, она со дня восшествия своего на престол не надела два раза одно и то же платье. Танцуя до упаду и подвергаясь сильной испарине, вследствие преждевременной полноты, она иногда три раза меняла платье во время одного бала. В 1753 году, при пожаре одного из ее московских дворцов, сгорело четыре тысячи платьев; однако после ее смерти осталось их еще пятнадцать тысяч в ее гардеробах и два сундука, наполненных шелковыми чулками, тысячами пар туфель и более чем сотней кусков французских материй. Она поджидала прибытия французских кораблей в С. -Петербургский порт и приказывала немедленно покупать новинки, прежде чем другие их увидели. Английский посланник лорд Гилфорд сам хлопотал о доставке императрице ценных тканей. Она любила белые и светлые материи, затканные золотыми или серебряными цветами. Бехтвен, посланный в 1760 г. в Париж для возобновления дипломатических сношений между обоими дворами, вместе с тем добросовестно тратил свое время на выбор шелковых чулок нового образца…
Гардероб императрицы вмещал и собрание мужских костюмов. Она унаследовала от отца его любовь к переодеваниям. Через три месяца после своего прибытия в Москву на коронацию она успела, по свидетельству Ботта, надеть костюмы всех стран в мире».
Мужской костюм ей нравилось надевать, потому что она считала, что в нем легче удивить окружающих округлостью икр и изяществом лодыжек. У нее были красивые ноги: ее уверяли в этом и – уверили.
Два раза в неделю во дворце устраивались маскарады. Ее Величество участвовала в них, перерядившись то в казачьего гетмана, то в мушкетера времен Людовика XIII, то в голландского моряка. Считая, что в мужском наряде она неотразима, а ее соперницам из тех, кого она приглашала обычно, такой костюм не к лицу и не по фигуре, Елизавета учредила костюмированные балы, на которые, по ее приказу, женщины являлись во фраках и штанах на французский манер, а мужчины в платьях с фижмами.
Ревностно следившая за тем, чтобы ни одна из представительниц прекрасного пола не могла превзойти ее в красоте, императрица совершенно не выносила конкуренции ни в нарядах, ни в обилии и качестве украшений. «Никто не смел носить платьев и прически нового фасона, пока она их не оставляла; но ввиду того, что она меняла их ежедневно, а иногда и ежечасно, придворные дамы не слишком отставали от моды».
Как-то Елизавета решила появиться на балу с розой в волосах. И надо же случиться, что Наталья Лопухина, и без того славившаяся красотой и имевшая в связи с этим большой успех в свете, тоже воткнула в прическу розу, да еще на самой вершине башни из роскошных волос. Елизавета была, мало сказать, возмущена. Такое совпадение не может быть случайным! Нет, это попытка оскорбить, унизить Ее Императорское Величество! Это пощечина царской чести! Остановив оркестр в разгаре бала, взбешенная царица заставила Лопухину встать на колени, велела подать ножницы, собственной рукой срезала злополучный цветок вместе с прядью волос гостьи – да так рванула эту прядь, что тщательно уложенные волосы рассыпались по плечам. Покончив с розой, царица наградила несчастную увесистыми оплеухами, ударив ту по обеим щекам, и только после этого дала знак музыкантам продолжать танец и вернулась к прерванному ради экзекуции менуэту.
Когда танец закончился, кто-то шепнул Елизавете на ушко, что мадам Лопухина упала в обморок, не в силах снести стыда. Пожав плечами, царица в ответ процедила сквозь зубы: «Ништо ей, дуре! Сама заслужила!», – и, совершив свою мелкую женскую месть, снова стала, как всегда, веселой и безмятежной. Теперь в ней просто не узнать было ту, что несколько минут назад бесновалась посреди зала, можно было подумать, что все это делал кто-то другой…
«С того дня, – пишет К. Валишевский, – Лопухина была намечена Елизаветой для руки палача, которой и не избежала».
И еще на эту тему. Интересные подробности о характере Елизаветы Петровны приводит в своих воспоминаниях о ней Екатерина Великая, которая оставила нам рассказ о том, «…как в Софьине, в окрестностях Москвы, куда Елизавета поехала на охоту в 1750 году, она стала журить cвоего управляющего за малочисленность зайцев. После того как управляющий получил от нее нахлобучку, она обрушилась на другие жертвы…» И тут ее гневные взоры упали на Екатерину, сопровождавшую ее. «Она постепенно к тому подходила, и слова ее лились потоком». Она «никогда бы не вздумала надеть дорогое и тонкое платье на охоту». И она сердитым взглядом окидывала лиловое платье, вышитое серебром, в котором та, что его надела, охотно убежала бы вместе с зайцами.
Думая положить конец этой сцене, придворный шут, Аксаков, – последний, если не ошибаюсь, при русском дворе – вздумал показать Елизавете в своей шапке только что пойманного им дикобраза. Она пронзительно вскрикнула, увидя в нем сходство с мышью, убежала в свою палатку, где в сердцах обедала одна; а на следующий день (о чем Екатерина не упомянула, рассказывая эту сцену) Аксаков был взят в тайную канцелярию, т. е. его пытали за то, что он «напугал ее величество».
Бранясь, Елизавета ориентировалась на Лестока, который, как говорили, «исчерпывал самый грубый словарь как немецкого конюха, так и русского мужика».
Склонность к неуместным и несвоевременным (не говоря уж о беспричинности их!) наказаниям уживалась в императрице со спонтанными приливами набожности. Каяться она начинала столь же внезапно, как выходить из себя. Выстаивала целыми часами на церковных службах, скрупулезно соблюдала дни постов, иногда даже падая в обморок после того, как вставала из-за стола, не взяв в рот и маковой росинки. Зато наутро она старалась «наверстать упущенное» – и это заканчивалось несварением желудка. Все, абсолютно все в ее поведении поражало излишествами и неожиданностями. Ей в одинаковой степени нравилось заставать врасплох других и обнаруживать что-то новенькое в себе самой. Необузданная, неряшливая, своенравная, если и образованная – то едва наполовину, пренебрегающая расписанием трудов и досуга, которое сама же и составила, столь же быстрая в наказании, сколь и в прощении, фамильярная с низшими и надменная с высшими, без колебаний отправляющаяся на кухню только ради того, чтобы вдохнуть аромат готовящихся там блюд, то гомерически хохочущая, то – практически тут же! – плачущая навзрыд, она производила на ближних впечатление хозяйки дома при старом режиме, в которой любовь к французским побрякушкам не заглушила святой простоты славянской души.