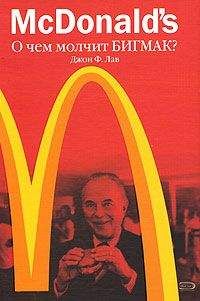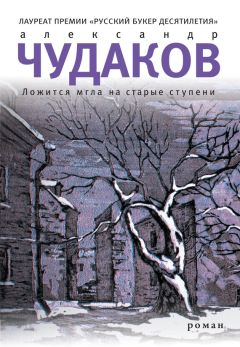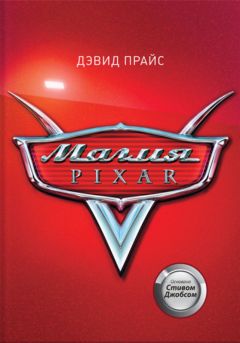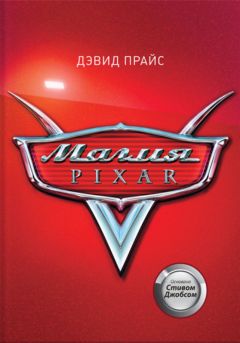Александр Чудаков. - Ложится мгла на старые ступени
Приходил на бревна и Петя-партизан. Его все уважали: из брянских лесов он привез ящик гранат (ими глушил на озере рыбу) и — шел слух — много чего еще; Генка клялся, что партизанский сын Мишка показывал ему трофейный «Вальтер». Нас, говорил Петя, в деревнях недолюбливали. После немцев кое-какие продукты еще оставались, партизанам же надо было отдавать все, подчистую — свои, защитники, и не спрячешь, знают, где искать. У нас один был, большой спец. Я, говорит, продотрядовец, еще во время продразверстки изымал, знаю, куда ховают… Постоят в деревне партизаны, немцы придут — сожгут за это деревню. А там бабы, дети, с собой в лес их не брали. Почему? Чтоб не обременяться, не терять мобильность. Раз отбили группу евреев — тоже больше старики, женщины — так тоже с собой не взяли. Потом их всех постреляли, свои же.
— Как свои?..
— А очень просто. У карателей только офицеры были немцы. Остальные — наши: русские, хохлы, литва… Те, кого мы разбили, потом вернулись и наткнулись на евреев, которых мы бросили. И тоже не взяли — расстреляли тут же и даже не закопали.
— Чего ж все шли в партизаны? — интересовался Крысцат.
— Сам мало кто шел. Мобилизовывали — все равно как в Красную Армию… Много вранья про партизан.
— А про армию мало? — вмешивался Кувычко, навсегда обиженный на власть за то, что сначала уволили из вооруженных сил, а потом посадили его отца, кавалера трех георгиевских крестов, полученных в царской армии, каковой факт он преступно скрыл. — Ты много читал про заградотряды, про приказ 227?
Крысцат считал: приказ правильный, военная необходимость.
— Военная-о. енная! Потому что тебя не касалось! Сидел в своей железной дуре, сам черт не брат, куда хочу — туда ворочу! пэтээрами заградников не комплектовали. А пехота или наш брат, шофер? Только увидят — хохотальником в ихнюю сторону повернулся, тут же очередями, из пулеметов, сначала настильно, поверх, а не развернулся обратно — пеняй на себя… Хохотальник — радиатор, — пояснял Кувычко, видя, что Антон открыл рот, и догадывался верно; фронтовики сразу после войны вообще отличались большой сообразительностью; потом стали как все.
Петя-партизан рассказывал много такого, чего из фронтовиков не знал никто, и рассказывать не боялся. Как-то между прочим обмолвился, что на оккупированных территориях открылось много храмов. На другой день на бревна единственный раз пришел дед — узнать поподробнее.
В Смоленске при немцах снова открылся кафедральный собор, в котором до этого был антирелигиозный музей; в Клинцовском округе на Брянщине до войны не было уже ни одной действующей церкви, а за два года открыли около трех десятков. По воскресеньям по радио транслировали богослужения, выступали священники.
— Мы считали, все это — нацистское заигрыванье и пропаганда, а когда один поп выразил благодарность новой власти за восстановление своего храма, мы его повесили в церковной сторожке на потолочной балке… Я не вешал — у нас этим занимался один — то ли чоновец, то ли продотрядовец, его учитель из нашего отряда называл Самсон-палач. Он настаивал, чтоб повесить в алтаре, но наш командир, хоть и партийный, не разрешил.
Сын Пети Мишка тоже рассказывал кое-что, пока не появлялись мужики. Когда отец партизанил, он оставался в деревне. Возле школы стоит кучка немцев. На улице появляется красноармеец. В форме, со скаткой, за плечом винтовка. Идет, по сторонам не смотрит. Немецкие солдаты — ноль внимания. Из школы выходит офицер. Кричит что-то красноармейцу. Тот подходит, становится по стойке «смирно». Офицер что-то говорит своим, один солдат подходит, вешает на забор шмайссер, берет у красноармейца винтовку за ствол и — хрясь прикладом…
— По голове?
— …об камень. Открывает подсумок, вываливает оттуда на землю патроны. Офицер машет рукой — иди, мол, куда шел. Он и пошел себе. Немецкий солдат берет свой шмайссер и…
— Та-та-та-та-та-та! — показывает Генка Меншиков, и мы съеживаемся.
— Да нет. Уходит к другим, в кучку.
— А наш?
— Пошел дальше. И не оглянулся.
— Куда ж он шел?
— Кто его знает. Можа, к другим, что в риге сидели. Сидели и сидели. А как немцы появились, стали выходить с полотенцами, с нижними рубашками на палках, а кто просто руки вверх.
О войне я читал все. Во время войны — газету «Правда» (вслух деду) и журнал «Крокодил», позже — все попавшие в Чебачинск книги, художественные и нет. Одно из первых воспоминаний — карикатура в «Крокодиле» после сталинградского разгрома. На фоне карты с кольцом окружения пригорюнившийся Гитлер поет: «Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии». Фюрера было даже немножко жалко, хоть он был и гад. А в конце войны инвалид, собиравший в шапку медяки на базаре, пел еще более жалистную песню: «Печальный Гитлер в телефоне тихонько плачет и поет: „Я вам расскажу про фронт по блату. Русские на Запад к нам идут. Чувствую я близкую расплату — скоро шкуру с нас они сдерут“». Очень нравилось кино: девушка-свинарка разоблачает шпиона и одновременно лечит большую и симпатичную свиноматку.
Уже в школе отец подсовывал статьи о пионерах-героях, но их читать Антон не любил: он сомневался, что никого не выдаст, если ему, как пионеру Смирнову, станут отпиливать ножовкой правую руку, и очень от этого мучился.
…Американский психоаналитик, пытаясь выяснить детские комплексы Антона, страшно удивился, узнав, что больше всего ребенок страдал от подобной мысли. И сказал, что теперь понимает разницу между своим и русским народом — по крайней мере, в середине двадцатого века.
На всякий случай Антон учился писать и строгать левой. Начал он было и ходить босиком по снегу, чтобы натренироваться, если его будут гонять, как Зою Космодемьянскую, но бабка, увидев за сараем следы босых ног, пришла в ужас, как Робинзон, и, хотя Антон пытался отрицать принадлежность следов ему, нажаловалась родителям. А тут еще отец принес очерк о пионере-герое, который, чтобы не упустить на снежном поле немецкого генерала, разулся и генерала догнал. Мама попросила приносить очерки о взрослых героях.
Больше всех Антону понравился один летчик, настоящий герой, с необыкновенной фамилией: Гастелло. Другие герои носили фамилии какие-то слишком простые: Матросов, Клочков. Последняя была совсем никуда, хотя этот герой сказал слова, которые очень нравились отцу: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва». Про летчика хотелось написать стихи с такими же красивыми словами. До этого Антон уже сочинял кое-что воинственное: «Раз полунощной порой, Проходя тропинкой, Парень вынул пистолет и взмахнул дубинкой». Но сейчас, чувствовал он, надо что-то другое. После заглавия «Отважный пилот Гастелло» дело пошло: