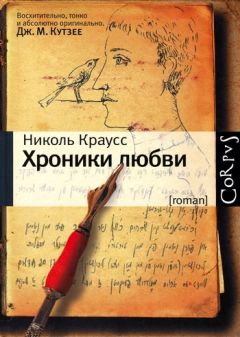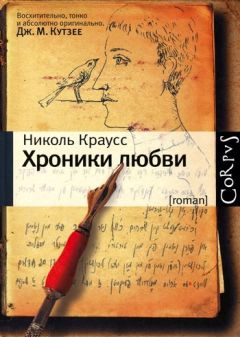Чарльз Буковски - Письма о письме
Писать – это лишь результат того, чем мы становимся изо дня в день за годы. Я – чертов отпечаток пальца себя, и вот он тут. А все написанное в прошлом – ничто; что есть… лишь следующая строка. А когда не можешь придумать следующую строку, это не значит, что ты стар, это значит, что ты умер. Мертвым быть нормально, так случается. Но я жажду отсрочки, как и все мы. Еще листок бумаги в машинку, под этой жаркой настольной лампой, застрял внутри вина, вновь прикуриваешь сигаретные бычки, а внизу моя бедная жена слышит эти звуки, не понимая, обезумел ли я, или же просто пьян, или что. Я никогда ей не показываю свою работу, никогда об этом не говорю. Если удача держится и книжка выходит, я ложусь в постель, читаю ее, ничего не говорю, передаю ей. Она читает, говорит очень мало. Так вот богам и угодно. Это жизнь превыше всех смертных и нравственных соображений. Вот оно. Так заведено. И когда мой скелет упокоится на дне домовины, если мне такое выпадет, ничто уже не сможет вычесть этих великолепных ночей, когда я сижу тут за этой машинкой.
[Карлу Вайсснеру]22 августа 1986 г.[…] Я заглотил, к черту, почти полную бутылку за 15 минут, охлажденного белого. Пришлось, оно так быстро согревается. Вполне нравится новая книжка «Порой бывает так одиноко, что в этом даже есть смысл». Ничего бессмертного, но, может, хоть посмеяться хорошенько? Был у меня Барбе, увидел все эти картонные коробки, набитые стихами.
«Иисусе Христе, и ты все это написал?» – спросил он.
«За этот год», – ответил я.
«А Мартин выбирает у тебя лучшее?»
«Будем надеяться…»
Ну, большинство поэтов сами отбирают свои стихи. Я же – я ленив. Кроме того, пока я работаю над отбором стихов, я мог бы писать больше. Один из великих секретов Мартина в том, что у него ПОД СПУДОМ ТЫСЯЧИ СТИХОВ. Он никогда их все не напечатает, он столько просто не проживет. Я, вероятно, чуточку спятил, но едва ли чувствую, что пишу, когда мне писать не хочется. Что же до Мартина, мне хочется лишь, чтоб он печатал те стихи, что побуйнее. У меня такое ощущение, что он меня выставляет чуточку формальным.
Надо вернуться и дописать этот ебаный рассказ. Это великолепный жанр, в нем можно больше играть. Все вот так вот, я могу написать рассказ, когда мне хорошо, а мне, блядь, было совсем не хорошо, потому-то одни стихи стихи стихи… Без этого высвобождения я б, вероятно, покончил с собой или же глотал бы пилюли в ближайшем приюте для душевнобольных.
1988
[…] Стихи мешают роману – остальные, помимо воплей рака кожи, – продолжают поступать. Иногда лишь бутылка и стих соответствуют ситуации, или неделе ситуаций. Или неделям их.
По-прежнему до стр. 173 романа [ «Голливуд»], страницы уже не держатся на планшете. Мне кажется, письмо нормальное, хотя, если и когда книга выйдет, у меня могут случиться дальнейшие неприятности. Но наши суды тут настолько заполнены, что иногда дело доходит до слушания лишь через 5 или 6 лет, а за это время бумаги летают туда-сюда, и бумаги, и юристы толстеют и богатеют, а клиенты сходят с ума.
«Горгулья», да, они давно существуют, хотя работы, что они печатают, кажутся довольно гладкими и им недостает азарта и живости. Но Джей Д[огерти] мне говорит, что ты выступил с бешеным интервью, и я с нетерпением жду, что скажет Клевый Карл из Маннхайма. Мне всегда нравились твои взгляды на существование.
«Мадригалы [из меблирашек]», да, но мне все равно нравится то, чем я сейчас занят. Ясность до самой кости. Я думаю. Раз уж я ебусь с лентой, у меня должен появиться навык.
[Карлу Вайсснеру]6 ноября 1988 г.[…] Да, я закончил «Голливуд». Мне кажется, он нормальный. Внутри немного утробного хохота. На самом деле, мне он нравится, как и все, что я написал. Но писатель, разумеется, – худший судья собственным работам. Однако для меня писательство – тоник, эликсир, ага, потому что меня пожирало множество всего, глодало меня, орало на меня, и пишущая машинка и бумага были выходом, прочь из говнопруда в довольно воздушный полу-свет, хотя то, о чем я писал, было в жанре ужасов. Иногда все будто бы сходится, когда вроде как пропало.
Я бы больше предпочел писать в счастливом состоянии рассудка и могу это делать, когда настает такой вот редкий и удачный миг. Не верю я в боль как сбытчика искусства. Боль слишком часта. Мы можем без нее дышать. Если она нам позволит.
О Берроузе, мне с ним никогда не везло. И мне жаль, что он для тебя потускнел. Вся эта шайка: Гинзбёрг, Корсо, Берроуз, тому подобные, для меня-то они давно потускнели. Когда пишешь только для того, чтобы прославиться, все просираешь. Не хочу устанавливать какие-то правила, но если одно и есть, то вот оно: только те писатели хорошо пишут, кто должен писать, чтобы не сойти с ума.
1990
Хьюз опубликовал четыре стихотворения Буковски в «Платанном обозрении» в 1990–1991 годах.
[Генри Хьюзу]13 сентября 1990 г.9–13–90
Привет, Генри Хьюзу
Я рад, что парочку удалось в тебя втиснуть.
Мне уже 70, но, пока льется красное вино, а пишущая машинка шевелится, все в порядке. Хорошо у меня получалось, когда я писал грязные рассказики для мужских журналов, чтобы платить за квартиру, и у меня до сих пор хорошо получается, когда пишу вопреки опасностям небольшой своей известности и скольких-то денег – и приближающихся шагов по той штуке со знаком СТОП. Временами я наслаждался этим поединком с жизнью. С другой стороны, я его покину без сожалений.
Иногда я называл писательство болезнью. Если так, я рад, что ею заразился. Я никогда не заходил в эту комнату и не смотрел на пишущую машинку, не чувствуя, что где-то что-то, какие-то странные боги или что-то совершенно неназываемое коснулось меня отпетой, пропетой и чудеснейшей удачей, что все держится, держится и держится. О да.
[Редакторам «Колорадского северного обозрения»]15 сентября 1990 г.[…] Я замечаю, что вы связаны с университетом, но все равно разговариваете вполне по-человечески, по крайней мере – в переписке. Но за последние пару лет я отмечал, что университетские издания более открыты к азарту и разнообразию в том, что они провозглашают, я имею в виду, что они выкарабкиваются из XIX века, по крайней мере, с приближением XXI.
Да, я понимаю, о чем вы в смысле письма и писателей. Мы, похоже, потеряли цель. Писатели, судя по всему, пишут ради того, чтоб быть известными как писатели. Они не пишут потому, что их что-то подталкивает к краю. Оглядываюсь на то, когда у нас еще были Паунд, Т. С. Элиот, э. э. каммингс, Джефферс, Оден, Спендер. Их произведения прямо пробивали бумагу, поджигали ее. Стихи становились событиями, взрывами. Была сильная взбудораженность. Теперь уже десятки лет у нас, похоже, это затишье, едва ли не умелое затишье, словно скука – показатель гениальности. И если возникал новый талант, то была лишь вспышка, несколько стихов, тоненькая книжка, а затем он или она стачивались, переваривались до тихого ничто. Талант без стойкости – чертово преступленье. Это значит, что они попались в мягкую ловушку, это значит, что они уверовали в хвалу, это значит, что они удовлетворились недобором. Писатель – не писатель от того, что преподает литературу. Писатель лишь тогда писатель, если он может писать сейчас, сегодня вечером, сию минуту. У нас слишком много экс-писателей, которые печатают. Книги выпадают у меня из рук на пол. Они полная чушь. Мне кажется, мы только что спустили полвека на вонючие ветра.