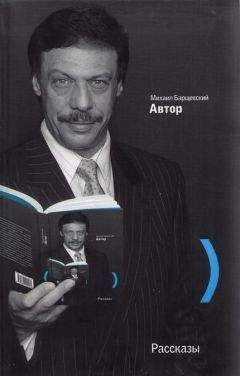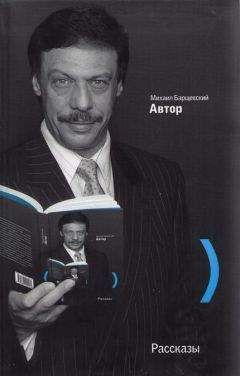Лев Гинзбург - Бездна
И опять Вейх не выдержал, попросил слова.
- Я не отрицаюсь... Я не отказывался и не отказываюсь. Но у меня вопрос к свидетелю: за что вы были награждены?
Пушков вопросительно посмотрел на судью: отвечать? - и не совсем твердо сказал:
- Я был... за то, что, когда, находясь в окружении...
Вейх движением пальца отмел:
- Э, нет!..
Но все это не имело значения, так как судили сейчас не Пушкова, а Вейха. И Пушков это знал и поэтому был совершенно спокоен. Все они, эти свидетели, были спокойны и равнодушны не только к своим бывшим сослуживцам, но и к себе, к своим преступлениям, потому что знали, что формально повторной ответственности не подлежат и лично им ничто уже больше не угрожает. И, рассказывая об ужасных вещах, о чудовищных "эпизодах", никто из них не волновался и - за ненадобностью - не демонстрировал ни раскаяния, ни угрызений совести, ни сочувствия к жертвам.
В этом смысле подсудимые держались иначе. На них уже лежала тень неизбежности, которая все смягчает, на все накладывает свой отпечаток и любого заставляет задуматься над прожитой жизнью. Но стоило выпустить их из-за деревянного барьера, снять с них бремя ответственности, как они тут же выпрямились бы, отшвырнув от себя всю свою горечь и "трагедийность", и пошли бы дальше по жизни, никого не жалея и ни о ком не печалясь, потому что жалеть они умеют только себя и тогда только становятся похожими на людей, когда попадают за деревянный барьер, под "ярмо закона".
Впрочем, у этих девяти были свои причины сетовать на судьбу, так как из всех преступлений их преступление оказалось самым "невыгодным", самым непосредственным и явным. Куда денешься, если руки в крови и ты стрелял? Тут самая очевидность преступления не дает вывернуться и уйти от возмездия. А у скольких руки не в крови, ни пятнышка крови нет на руках, разве что след от чернил, которыми написаны приказы и "теоретические обоснования". А есть и такие, у которых вообще никакого пятнышка нет, кто просто "умыл руки" и ни в чем не участвовал - только молча наблюдал, как убивают и душат других. Но все они - организаторы и теоретики убийств, молчальники и подпевалы - внесли свою "лепту" в беду человечества и создали на земле ту ситуацию, при которой Сухов мог волочь в душегубку ейских детей, а Скрипкин - расстреливать военнопленных.
Ведь все, что делала зондеркоманда, было конечным результатом огромной подготовительной работы по уничтожению людей, и в огромной машине смерти эти девять были самыми малыми винтиками. Но так как человек не должен и не может быть винтиком, которому все равно, в какую машину его вставят и в каком колесе он будет крутиться, никому из них не было оправдания, и мертвые предъявляли им счет. Исход был ясен еще до начала процесса: для того, кто раскаялся, смерть - избавление, а для нераскаявшегося смерть кара.
* * *
Двое суток - с 22 по 24 октября - совещались судьи, и вместе с ними вершили свой нравственный суд тысячи людей, которые в Краснодаре и за его пределами следили за ходом процесса.
Подсудимые ждали решения своей участи; не спали, почти не притрагивались к еде, только Псарев ел и спал и за двое суток прочел столько книг, сколько не прочел за всю свою жизнь. И, может быть, эти книги оказали на него "благотворное влияние", и он, возможно, даже кое-что понял. Но было уже поздно.
Еськов попросил карандаш и бумагу и писал стихи, которые никому уже не были больше нужны, так как личность подсудимого Еськова считалась полностью выясненной и все его преступления - установленными и доказанными в судебном заседании.
А потом грянул приговор, сталью сверкнули наручники, и по улицам Краснодара двинулись тюремные машины, увозя осужденных. Из архивов гестапо
ДВА ПИСЬМА, НАПИСАННЫЕ ПЕРЕД КАЗНЬЮ
1. Письмо Николая Кузнецова, бывшего ученика школы имени Чехова (Таганрог).
Дорогая мамочка, родные и близкие, друзья! Пишу вам из-за тюремной решетки. Полиция узнала, что мы с Ю. Пазоном спалили дотла немецкий вездеход с пшеницей, автомашину, крали у немцев оружие, убили изменника Родины, совершили диверсии. За это нас повесят или в лучшем случае расстреляют. Но ничего! Гвардия погибает, но не сдается... Все равно Красная Армия будет в Таганроге...
Май 1943 г.
2. Письмо молодого немецкого крестьянина.
3 февраля 1944 г.
Дорогие родители!
Я должен сообщить вам печальное известие о том, что я приговорен к смерти, я и Густав Г. Мы отказались записаться в СС, поэтому они приговорили нас к смерти. Вы сами писали мне, чтобы я не вступал в СС, и мой товарищ Густав тоже не записался. Мы хотим скорее умереть, чем запятнать свою совесть такими зверствами. Ведь я знаю, чем занимаются эсэсовцы. Ах, дорогие родители, как все это тяжело для меня и для вас, простите меня, если я вас в чем обидел, пожалуйста, простите и молитесь за меня...
По ту сторону легенды
В таганрогском гестапо канцелярией - "шрайбштубе" - заведовал молодой зондерфюрер Георг Бауэр. Он прибыл в Таганрог в феврале 1943 года, вскоре после событий на Волге: возвращался из Германии, из отпуска, в полевое гестапо на станцию Чир, но Чир к тому времени был уже взят русскими, полевое гестапо разгромлено, и отдел "1-с" вновь сформированной 6-й армии направил Бауэра для прохождения дальнейшей службы в Таганрог, к Брандту.
Бауэру было девятнадцать лет, он родился в городе Оппельн (Силезия), рано потерял родителей и воспитывался у тетушки. Он принадлежал к той категории молодых немцев, которые выросли и духовно оформились при Гитлере и никакой другой, "нефашистской", жизни не знали, представить себе не могли, что можно жить иначе. Это была действительно "особая" молодежь, избавленная от свойственных юности поисков истины, раздумий над "смыслом бытия", от каких-либо сомнений и умственной самодеятельности. Все этим юношам было ясно, все истины для них найдены, сомнения устранены. Они считали себя счастливцами, увлеченные игрой, в которую играла тогда вся Германия. Каждый чувствовал себя приобщенным к "великой цели", каждый "выполнял миссию", каждому было внушено, что он не просто человек и не просто немец, a deutscher Mensch{10} (был такой термин), и этот бессмысленный по существу термин невольно к чему-то обязывал, наполнял жизнь людей особым содержанием, придавал особую окраску самым обычным поступкам. Здесь разум был выключен, действовало только чувство, и культ чувства, не замутненного, как они выражались, "умствованием" и "крохоборческой логикой", проповедовался на каждом шагу.
Годы, вошедшие в немецкую историю как позорная и мрачная пора варварства, пыток и казней, многими немцами искренне воспринимались как "эпоха национального подъема". Искусственно взвинченное чувство оказалось сильнее разума, "слепая вера" - сильней очевидности. Более того: способность действовать вопреки очевидности, наперекор логике и здравому смыслу считалась особым свойством "немецкого человека", свидетельством его превосходства, признаком его целеустремленности и политической сознательности.