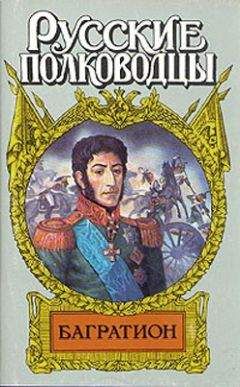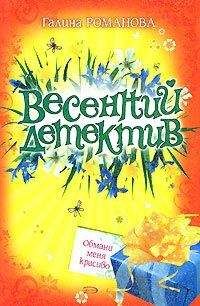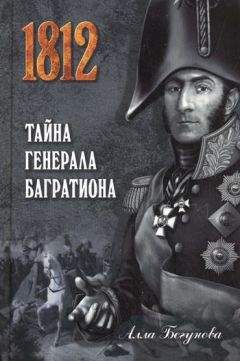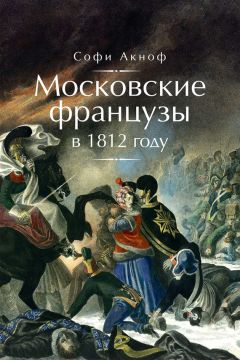Валентина Талызина - Мои пригорки, ручейки. Воспоминания актрисы
Вспоминается очень характерный эпизод, когда однажды я впервые попала в шикарный магазин «Галери Лафайет». Я ходила по всем этажам, и это изобилие, эти горы вещей, этот выбор на любые деньги просто убивал наповал. Всё начинало плыть перед глазами: платья, юбки, блузки, сумки. Я вышла и почувствовала, что меня тошнит. Судорогой сводило желудок. Жуткое ощущение!
Я ничего не съела, меня тошнило от нервного потрясения, и я думала: «Господи, да почему же это такое случилось? У нас та же голова, те же две руки, те же две ноги, и почти что такое же туловище, и почему мы там вот так, а здесь вот так?» Меня мутило, а живот был приклеен, по-моему, к позвоночнику. Я села на какой-то гранитный подоконник и ушла в свои грустные мысли.
Я не вдавалась в какие-то особые рассуждения. Почему-то всё происходило именно физически, на самом-самом простейшем уровне.
В самом начале моей парижской одиссеи я познакомилась с Олегом Целковым. На какой-то тусовке, как сейчас говорят, ко мне вдруг подошла одна женщина: «Ой, что-то мне ваше лицо знакомо. Вы откуда? Вы, конечно, из Москвы». Я говорю: «Да, из Москвы». – «Мне безумно ваше лицо знакомо. Как ваша фамилия?» Я сказала. «Ну да, конечно!» Это была первая жена Лёни Хейфица Антонина Пипчук. К тому времени в Париж переехала и её мама, Лидия Фёдоровна.
Олег курил, и я помню, у них были советские сигареты – чуть ли не полкомнаты они занимали, тоже чтобы не тратить деньги. И ещё запомнилось, как Лена Пипчук с Лидией Фёдоровной лепили пельмени, пекли пирожки и продавали на лотках. Олег в ту пору ещё не был таким знаменитым. Он рисовал картины, но они почти не продавались. И эти пельмени с пирожками кормили всю семью и всех тех русских, которые случайно приезжали. У Целкова, по-моему, перебывали все.
Еще тогда, когда они не были ни богатые, ни знаменитые, Олег мне сказал: «Валя, уезжать надо оттуда». Я сказала: «А что я буду здесь делать?» – «Ну, первое – это мыть полы». – «И где?» – «Или в частных домах, или в квартирах у состоятельных людей. Потом всё устроится, потом всё будет хорошо, но вначале надо, конечно, мыть полы». И про себя я подумала: «Нет, лучше я буду хорошей артисткой в России, чем мыть полы во Франции». Ни знаменитой, ни легендой, ни великой – лучше я буду хорошей артисткой, чем поломойкой, пусть даже в Париже.
А вот эта депрессуха в первую неделю была всегда. Я никак не могла привыкнуть после года жизни в СССР к капиталистическому изобилию, к этой какой-то лёгкой, необременительной жизни, к этим законам.
Семья Целкова жила в центре Парижа, и однажды я ехала от них, и в подземке было практически пусто. В вагоне я оказалась одна. Я заболевала и выглядела как кулёма: в кожаном пальто и в платке, по-бабски повязанном, потому что мне было то жарко, то холодно, хотя на улице стоял июль или август. Вдруг зашли афроамериканцы, человек семнадцать. Время полдвенадцатого ночи. И у меня одна мысль: доехать бы. Но всё было нормально. Доехала и потом бежала к моему дому минут десять от метро. Я летела.
Звонить я, конечно, никогда не могла, потому что жила в режиме жесточайшей экономии.
В те времена в Париже редко можно было услышать русский язык. Мало кого выпускали за железный занавес. Однажды случилась такая история. Я любила заходить в русскую библиотеку возле метро «Одеон». Там я брала почитать запрещённые у нас книги. И какой-то человек вдруг увязался за мной, горбатый, не очень приятный тип. Возможно, он выехал по израильской визе. Он меня не узнал, но увидел, что я русская, и со мной заговорил. Спросил: «А вы тут как вообще?» Я сказала: «Ну, я вот по частному приглашению». – «Как?! И вас выпустили?» – «Да, выпустили». – «А, ну это вы работаете в КГБ», – протянул он и пошёл. И я ему вслед бросила: «У вас все работают в КГБ».
Мне очень хотелось, чтобы Ксюша тоже посмотрела Париж. И мы с ней поехали, когда границы уже приоткрылись. Но жили мы не у Лидии Владимировны. Она старела, принимать гостей становилось тяжело, и условия – девятиметровая комната – не позволяли. И когда я как-то, так мягонько, заикнулась, что хотела бы приехать с Ксюшей, Лидия Владимировна промолчала. И я поняла, что она нас не примет.
И один знакомый парень, режиссёр, «дал» свою приятельницу, её звали Женевьева. Женевьева была полная, очень симпатичная, по-моему, она работала учительницей и преподавала русский язык. Она жила недалеко от Лидии Владимировны и дала свои ключи. Мы жили с Ксюшей в её доме. Опять у нас было всё на двоих распределено, весь сухой паёк, привезённый из Москвы.
Ксюше было шестнадцать лет. А с нами ехала ещё какая-то девушка, Лена, по-моему, она работала в «Современнике», вышла замуж за француза, потом разошлась. Мы с ней подружились и договорились встретиться в Париже. Так что мы были втроём. И мы с Леной смотрели на Ксюшу, как две ведьмочки, и ждали, когда у неё произойдёт эта депрессуха? Потому что у Лены было то же самое, и мы знали, что это обязательно случится. И не ошиблись.
Ксюшка в шестнадцать лет была хороша до невозможности. И мы ждали, когда у неё начнётся постижение Парижа через депрессию. Но время шло, а моя дочь пребывала в нормальном настроении. Это уже было другое поколение, которое всё воспринимало очень легко, просто, без напряга, и мы никак не могли увидеть у Ксюши начало этого мучительного состояния. Она даже особо ничему не удивлялась, реагировала спокойно: «Ну и что? Ну и что? Ну, Париж! Подумаешь!»
Наконец мы её привели в парфюмерный магазин. И когда она увидела горы всей этой благоухающей роскоши, тут и её стукнуло, и она простонала: «А почему?..» Мы с Леной дождались! Это было начало Ксюшиной депрессухи. И у неё эта депрессуха развивалась, она стала мрачной, не улыбалась, ходила и смотрела уже по-другому. Они уже с Леной или с какой-то другой девочкой побывали на Эйфелевой башне, все интересные места в Париже обошли, но Ксюшин барометр показывал «пасмурно».
Мы поехали к Целковым. Я что-то им везла из Москвы. Когда мы встречались с тёщей Олега Лидией Фёдоровной, это было потрясающе. Она говорила: «Валентина, садись, ты из Сибири, давай выпьем рюмочку, давай выпьем вторую. А теперь это попробуй и то обязательно – здесь всё такое вкусное!» И я всегда с ней отрывалась от своих брикетов с сухим пайком по полной программе! Я не помню, пели мы с ней или не пели, но какие-то анекдоты рассказывали. И было нам вдвоём безумно хорошо.
Когда мы приехали к ним с Ксюшей, в неё уже вцепилась парижская депрессия. И тогда я сама себе сказала: «Валя, ну ты всё-таки комедийная артистка, ну и давай, работай над своей дочкой, давай, добейся, чтобы она смеялась. Чего она у тебя так расклеилась?»
Лидия Фёдоровна, как обычно, поставила бутылочку, графинчик, опять закуски, и Валя себе напозволялась до потери пульса. Не до положения риз, но алкоголь прилично бурлил в крови. И когда мы уехали от неё и уже шли к себе, то я решила ещё немножко подыграть. И Ксюша начала хохотать. Она хохотала и кричала: «Тебя сейчас заберёт полиция! Ну что ты делаешь?» А я смеялась над всеми витринами, над всеми французами, которые проходили, то есть я была вдупель пьяная, но ещё и немножко подыгрывала. В общем, я вызвала у неё улыбку и раскачала эту депрессуху. Мы пришли, и Ксюша спросила: «Мама, можно я пойду погуляю?» – «Конечно, погуляй».