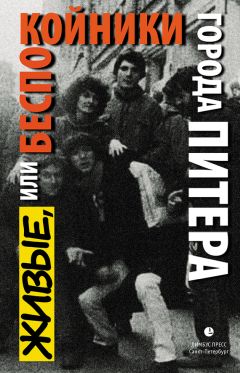Живые, или Беспокойники города Питера - Коровин Сергей Иванович
Известность Кудрякова среди литераторов началась задолго до первых публикаций, в конце семидесятых годов прошлого века, когда он стал (по рукописи) одним из первых лауреатов ныне весьма престижной премии Андрея Белого. Какое-то время его называли даже «русским Беккетом», но формула эта не прижилась — слишком уж своеобразен Гран-Борис сам по себе, чтобы к нему могла прилипнуть хотя бы и лестная этикетка Высказывания о Кудрякове собратьев по перу по большей части осторожны, обтекаемы и на удивление противоречивы.
«Дар Кудрякова мрачен и саркастичен, его проза выпукла и отчетлива, он является бесстрашным экспериментатором, активно использующим собственные приемы письма, стилизацию и эстетику чужой речи» (Сергей Коровин).
«Безусловно, лидером литературного петербургского авангарда в прозаическом жанре хочется назвать крепко саморазвившегося, поучительного в сентенциях и мизансценах, лирично-отстраненного в описаниях природы и быта, ценного прозаика Бориса Кудрякова.
(…) Один из немногих современных прозаиков, имеющий преданных почитателей и учеников» (Евгений Звягин).
«Для писателя, увлеченного литературой, а не сублимацией своего собственного темперамента, в первую очередь важно быть интересным самому себе, а потом — собратьям по цеху, и только в последнюю очередь — всем остальным (читателям). Борис Кудряков именно таков. И в этом требовательном смирении — достойный пример служения своему делу без позы, зависти и суеты» (Павел Крусанов).
«Это — таланты-минералы, они источают какое-то странное сияние, а их творчество, сколько бы там ни было примет нашей жизни, это — другой мир, другая жизнь, мир Зазеркалья.
Трудно найти другого автора, более противопоказанного массовому читателю, чем он, с его мрачным и драгоценным даром» (Михаил Берг).
«Одно прикосновение к „Рюмке свинца" может убить наповал. Что же говорить о том, чтобы пригубить, то есть прочитать» (Сергей Бирюков). Список цитат можно продолжить, но, наверное, этого хватит. Нечто вроде итога всей этой разноголосице, и по-своему логично, подводит Борис Констриктор:
«Писать о Борисе Кудрякове так же бессмысленно, как и читать его тексты».
Внутри любой творческой личности параллельно существуют два персонажа: художник и антихудожник. Художник есть человек и созидатель, то есть он по определению богоподобен и на своем материале (на своем уровне) повторяет Божий путь сотворения мира. Подобно тому, как Вседержитель из первичного дикого Хаоса, библейской «внешней тьмы» творил упорядоченный Космос, художник преобразует неукрощенную энергетическую стихию (красок, чувств, инстинктов) в эстетически организованную материю.
Что есть антихудожник — вопрос более сложный. Во всяком случае, это слово нельзя понимать, как «нехудожник». В старину на это смотрели просто: в художнике есть некто (или нечто), склонное к заигрыванию с дьяволом, что-то, как говорится, «не нашего мира». Художнику это разрешалось, поскольку он заигрывал с нечистью с благими намерениями, в назидание остальным людям. Еще Уильям Блейк писал: «Каждое удавшееся художественное произведение есть обручальное кольцо между небом и адом».
В переводе на современный язык: антихудожник есть субличность художника, провоцирующая инъекции хаоса в художественное пространство. Зачем? Ради остроты и конфликтности своих произведений, для их насыщения энергией и экспрессией. На одной только благости полноценное искусство не построишь. При этом молчаливо предполагается определенное соотношение масштабов: художник должен быть большой, а антихудожник — маленький, и инъекция Хаоса должна быть осторожной, наподобие прививочной ослабленной культуры бактерий. Иначе от искусства вообще ничего не останется, ибо Хаос аннигилирует с Космосом.
Изложенная схема применима по отношению ко многим художникам, но когда речь идет о Гран-Борисе, она не работает. Если имеешь дело с Граном, приходится копать глубже.
Как художник Гран превосходно справляется со стихией, при ее укрощении почти не снижая исходной энергетики.
«Ей было неинтересно, что какой-то рисовальщик там делает на бумаге. Ей было интересно голенькой посверкать, раскрыться, ловить восхищенный самострел и дрожь моих губ, да и своих тоже, вот. И еще ей было любопытно, чем закончится сеанс рисования.
— Так, а теперь ты будешь киской, которая лижет из блюдечка ежевичное варенье. — Она возроптала, как это, киска и варенье, но я стал пороть чушь про символизм мероприятия… запудрил мозги ненаглядной певунье, а сам страсть как хотел, чтоб она предо мной в позе утренней киски.
Я помог ей стать нежными коленями на грубый камень.
— Спинку прогни, так, еще пяточки врозь, смелее, еще попочку приподними.
Она вдруг оглянулась на меня и стыдно так прошептала, что я опустил глаза:
— Какое ты…
Я быстро стал рисовать пастелью — за полминуты сделал восемь набросков на толстой тонированной бумаге. Это были гениальные наброски-видения солдата-инвалида, которому осколком фугаса двухтонной бомбы оторвало что-то важное.
— Головку пониже, ручки в стороны, а теперь на руки не опирайся… Так хорошо! Дыши глубже, постой еще чуток, я сейчас кончу. — Она прыснула и упала щекой на варенье, замочив волосы.
Она тяжело дышала, я делал снимки „Сменой" и ходил вокруг».
В этом тексте как таковом нет ничего пугающего, но где-то на задворках сознания невесть откуда возникает предощущение страха. И оно постепенно нарастает по мере чтения текстов Кудрякова.
Казалось бы, все в порядке, мы только что наблюдали — превращение энергии в материю, в эстетически организованное пространство свершилось, но читатель недоумевает, почему у него время от времени возникает ощущение страха. Дело в том, что, укротив Хаос, Гран-Борис не отрекается от него, а тянет за собой. Он не превращает отвоеванную территорию в защищенную крепость, тонкая, чисто условная перегородка отделяет нас от «внешней тьмы», от первобытного темного ужаса.
Борис в конце почти каждого сочинения указывал год написания, поэтому можно проследить, как в его творчестве антихудожник расширяет и узаконивает свое присутствие наряду с художником.