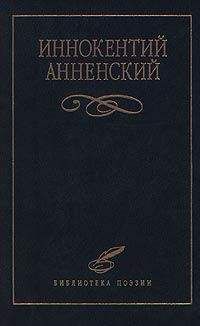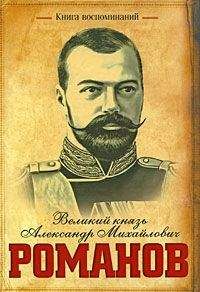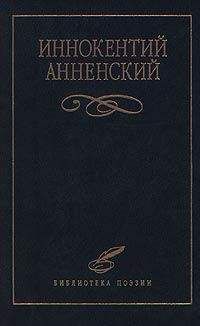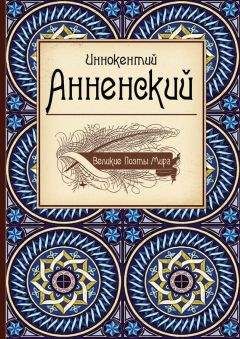Повесть моей жизни. Воспоминания. 1880 - 1909 - Богданович Татьяна Александровна
По возвращении в Париж, они стали приглашать нас к себе, чтобы продолжать вечеринку. Но мы решительно отказались к большому неудовольствию Муминого брата, находившего, что мы наносим им незаслуженное оскорбление. Сам он, проводив нас, продолжил веселье в компании.
Но на другой день он вынужден был признать, что мы, пожалуй, правильно поступили, такой характер приняла в дальнейшем эта «вечеринка».
В Париже у меня были родственники, которых тетя поручила мне посетить. Впрочем, мне и самой это было любопытно. О моей тете Любови Федоровне я много слышала от ее сестры, Марии Федоровны, очень мною любимой. Представление о ней я составила по ее рассказам и по шуточным стихотворениям, которые помнила наизусть. В полной уверенности, что почувствую себя в ее семье, как дома, я шла знакомиться со своими парижскими кузенами и кузинами.
Каково же было мое удивление, когда я увидела настоящую парижанку, чертами лица напоминавшую тетю Машу, но по всему складу совершенно чуждую Анненским.
Встретила она меня очень ласково, но попеняла, что я не прислала ей письмецо, тогда она пригласила бы меня к обеду.
Я поспешила сказать, что обедаю в другом месте, хотя предупредила Бернштамов, чтобы они не ждали меня, — до того мне казалось естественным, что родственники оставят меня обедать.
Но оказалось, что там это не делается так просто, как у нас.
Раз я была еще более удивлена. В тот день я обедала у них, и только мы сели обедать, как раздался звонок, служанка Мари пошла открывать и, вернувшись, сказала, что это такой-то, и она просила его подождать в гостиной, пока ее господа пообедают.
— Это ваш знакомый? — спросила я тетю, пользуясь тем, что ее дети не понимали ни слова по-русски, а муж был поглощен газетой.
— Да, знакомый, — ответила она.
— Так почему же вы не позовете его обедать, ведь мы только начинаем? — довольно бестактно спросила я.
— Он не был приглашен к обеду и сам виноват, что пришел в неуказанное время. Да его бы и самого это затруднило. Он очень ограничен в средствах, а ему, как холостяку, пришлось бы после этого пригласить нас обоих на обед в ресторан.
Я с недоумением посмотрела на свою тетю, ту самую, которая, получив жалование, говорила извозчику:
— Извозчик, вези меня на двугривенный!
Я два-три раза получала приглашение на обед и должна была без всякого удовольствия отбывать эту родственную повинность.
Однажды я получила даже приглашение в театр Одеон[7] на пьесу Ростана «Бродяга».
Пьеса показалась мне банальной мелодрамой. Я слушала ее равнодушно, несмотря на прекрасную декламацию знаменитого Муна Сюли.
Пьеса кончалась трагическим монологом героя, не получившего руки дочери богатого мельника.
«А ты, бродяга, иди бродяжничать».
Оглянувшись на своего дядюшку, известного ученого и члена Академии, я увидела, как из-под двух пар очков, надетых в театре, катятся крупные слезы.
Я с трудом сдержала улыбку, вспомнив, кстати, как накануне они с женой обсуждали, можно ли отдать его рубашку другой прачке, лучше крахмалившей белье, но берущей на два су дороже.
Нет, это были совсем другие люди, у меня с ними не было и не могло быть ничего общего. Типичные парижские буржуа. И этой психологией прониклась прежняя хохотушка, щедрая и легкомысленная русская девушка.
Был у меня в Париже и еще один родственник, сын дяди, Петра Никитича Ткачева, от его второй жены-француженки из зажиточной рабочей семьи. После смерти сначала отца, а потом и матери мальчик, по желанию матери, воспитывался в семье ее брата, рабочего инструментального цеха, Преверэ.
Маленький Пьер писал иногда тете официальные французские письма, благодарил за присланные подарки.
Тетя просила меня непременно побывать у этих Преверэ и посмотреть, как там живется мальчику.
Я поехала туда тоже без предупреждения и застала всю семью дома, собирающуюся обедать.
Мне очень понравилось у них. Посреди комнаты стоял большой круглый стол, покрытый чистой белой скатертью, и особые приборы для каждого члена семьи. Посредине стола бутылка красного вина и перед каждым прибором по стакану. Когда я назвала себя и мы посчитались родством, мадам Преверэ позвала Пьера и представила мне его. Мальчик был очень похож на карточки Петра Никитича в молодости и сразу мне понравился. Хозяйка радушно пригласила меня пообедать с ними, а Пьер — ему было тогда лет 12–13 — не сводил удивленных глаз со своей новоявленной кузины.
Я спросила его, чем он больше всего интересуется. Оказалось, лошадьми. В это время как раз происходили бега в Longs Champs. Я предложила ему съездить туда со мной, и он весь просиял. Его воспитатели дали согласие, и мы условились, что в день ближайших бегов он заедет за мной и мы отправимся за город.
Мне и сейчас приятно вспоминать, какое искреннее удовольствие это доставило мальчику. Я приглашала его с собой в некоторые музеи и галереи, но такого удовольствия они уже ему не доставляли.
Несколько раз он принимался робко расспрашивать меня о своем отце. Я охотно рассказывала, что знала, но лично мое знакомство с дядей относилось к такому раннему моему возрасту, что я мало интересного могла сообщить ему.
По возвращении в Петербург, я переписывалась с ним некоторое время, но нас соединяли слишком слабые нити. Переписка постепенно заглохла, и я, к сожалению, даже не знаю, жив ли еще, после двух войн, мой кузен, Петр Ткачев.
В Париже мы не были ни на одном рабочем собрании, но исходили город вдоль и поперек. Затем съездили во все освященные историей окрестности, осмотрели Версаль, Трианон, и Мальмезон. Толкались среди парижской толпы на бульварах, ходили ранним утром на прославленный парижский рынок Halle и любовались горами капусты, моркови, огурцов, томатов и других овощей, которые нигде не достигают такой величины, как в Париже. Со смешанным чувством удивления и отвращения наблюдали парижских торговок (fame de la Halle). Побродили по латинскому кварталу, зашли даже в Парижский университет, в знаменитую Сорбонну, куда вход свободен для всех и среди посетителей бывают даже хозяйки с корзинами провизии — погреться в холодные дни. Тем не менее, наше посещение, наши расспросы о лекциях и занятиях произвели пренеприятную сенсацию. В то время женщины не посещали университет и не допускались к экзаменам. Только в Швейцарии русские девушки своими настойчивыми усилиями завоевали себе право гражданства в университетах и широко пользовались им.
Оставалось нам только подняться на Эйфелеву башню. Мы все откладывали подъем, очень уж нам не нравилась сама башня. Она как-то нарушала стиль Парижа. Но, поднявшись на нее, мы любовались бы не ею, а все тем же прекрасным Парижем с его площадями, бульварами, живописными берегами Сены и ее зелеными островами.
Словом, мы решили подняться. На первые два яруса подъем происходит на лифте. На последний, окружающий верхушку башни, ведет довольно крутая чугунная лестница.
Наконец-то мы на самой вышке, и перед нами величественная панорама огромного мирового города. Но ведь мы пока смотрели все на одну часть Парижа. Мне захотелось обойти кругом верхушку башни. Я пошла, держась за перила, — высота там такая и притом никакого ската, сразу обрыв до самых улиц, — что все время немного кружится голова.
Не успела я обойти половину башенки, как вдруг передо мной очутились… два моих знакомых нижегородца — Кюлевейн и Кондратов. Я не имела понятия, что они в Париже и вообще за границей. Обоюдное изумление не имело границ. Надо же было проехать всю Европу и подняться на вершину Эйфелевой башни, чтобы встретиться с земляками.
Чтобы отпраздновать это событие, они пригласили меня позавтракать с ними. Я, понятно, согласилась, предупредив только Бернштамов.
Им захотелось угостить меня наиболее по-парижски, и они прежде всего заказали устриц. Но как мне ни хотелось быть с ними как можно любезнее, я не смогла заставить себя попробовать эту экзотическую закуску. Они были очень огорчены, но остальной завтрак вполне вознаградил меня за отказ от устриц, которых я так и не попробовала за всю свою жизнь.