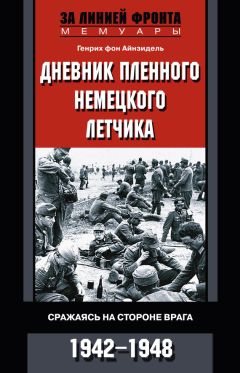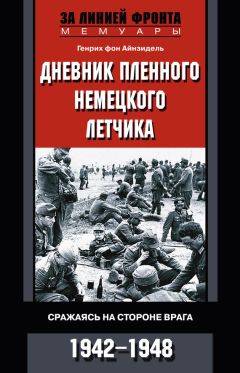Вагаршак Тер-Ваганян - Хачатур Абовян
— Дети, — обращается Абовян к школьникам, — если я попрошу у учителя, чтобы с сегодняшнего дня вас не били, обещаете ли всегда прилежно готовить уроки?
— Обещаем, — заорали мы хором.
— Тогда будьте покойны, побои изгоняются из вашей школы.
Учитель хотел доказать необходимость побоев — но напрасно.
Инспектор ввел еще одно нововведение. Он изумился, когда узнал, что мы лишены купанья. Он сам в тот же вечер повел нас к реке и с нами вместе выкупался в запруде. Он был прекрасным пловцом… Три дня беспрерывно инспектор ходил нас навещать. Невиданные и неслыханные новости вводил в нашу привычную к дубине и розгам среду. Обучал новым играм, сам с нами играл и заставлял учителя следовать своему примеру… На четвертый день семьдесят детей, учитель Шабо и половина деревни провожали пешком уважаемого инспектора эриванского казенного училища. Он сам пожелал, чтобы мы его провожали с песнями и весельем. Он не садился на коня. Окруженный школьниками, подбадривая нас, шел пешком. На прощание он сказал:
— Дети, ваш учитель мне обещал в дальнейшем не бить вас, в летнюю жару заниматься только в утреннюю и вечернюю прохладу, обещал ежедневно под вечер брать вас купаться, в день два часа играть с вами. Ребята, если у вас будут какие просьбы, адресуйте мне, я разрешаю письменно обращаться ко мне, прямо в училище. Не стесняйтесь, я сам мужицкий сын из села Канакер. Мое имя — Хачатур Абовян.
Он давно уже скрылся за холмом, а мы продолжали кричать в его честь.
«С этого дня побои были изгнаны в нашей школе», — добавляет Прошьян.
Не удивлюсь, если в архивах какой-либо прилежный доцент Армянского университета обнаружит донос на него, такого «опасного якобинца», написанный кем-либо из его поповских врагов и завистников, апостолов мордобоя и героев розг.
Соединенные усилия всех темных сил — среды и системы все настойчивее толкали Абовяна на путь политической борьбы. К. Кох, современный беспристрастный наблюдатель, говоря об Абовяне, который давал ему всякие сведения этнографического и бытового характера, пишет: «Возможно, что в том или другом вопросе он уклонился от путей, намеченных правительством в области народного образования, поскольку внешнее, формальное не удовлетворяло его возвышенную душу, возможно также, что и он имел кое-какие срывы, но несомненно Закавказье не видело такого учителя, который с такой любовью, с такими жертвами посвятил бы себя делу воспитания детей, как Абовян.
Я не друг армянского народа, но, судя по Абовяну, я увидел, что и среди них имеются хорошие и благородные люди, которые носят в груди высокие стремления и заслуживают наше полное признание. К сожалению, Абовян никогда не пользовался в Закавказьи признанием, какого он заслуживает, и мелкая злоба чиновников мешала ему без конца в его честных и неутомимых стремлениях. Если бы армяне имели хотя бы еще толыко сто человек, которые в равной степени обнаружили бы те же стремления, тогда страна переживала бы уже высокий подъем. С гордостью Россия тогда могла бы смотреть на жемчужину своего далекого владения. С сердцем и не с черствым, только умно, рассчитано начинает он воспитание юношей, юношеской наклонности, пытается привлечь к добру и добивается всеми способами привить ростки немецкой морали (!! — В. В.) и поддерживать их.
Если Абовян в качестве инспектора эриванской школы сумеет остаться в кругу нынешней деятельности и его подчиненные окажут ему деятельное содействие, а также оценят его в необходимой мере, можно надеяться что из Эривани блеснет новый свет для этого несчастного и забытого, веками попираемого армянского народа».
Так пишет путешественник, сторонний наблюдатель, случайный кратковременный зритель, от первого же взгляда которого не ускользнуло расхождение между педагогикой Абовяна и мертвой зубрежкой, жестокой муштрой казенных дрессировщиков. Это расхождение еще острее подчеркивало его одиночество, изолированность. Он хотел бороться против поповских застенков, опираясь на светские школы, но и в светской школе у него не нашлось опоры.
Демократическая школа должна быть светской, это верно, но и светскую демократическую школу надо будет завоевать, как и другие демократические права — вот спасительный вывод, который напрашивается сам собой.
Дошел ли Абовян до него? Сумел ли он сделать этот вывод? Ответить на эти вопросы мы пока не можем, но есть среди известных нам материалов факты, которые свидетельствуют о несомненном прояснении политического сознания Абовяна, о превращении педагогических сомнений в политические протесты.
Разве глухие намеки Коха не говорят о наличии безнадежного разрыва между «возвышенными стремлениями» Абовяна и официальной политикой, о прямых протестах против официальной рутины. К этому свидетельскому показанию мы можем добавить собственные слова Абовяна.
В 1847 году он писал Френу: «Ах, если только г. министр пожелал бы знать, в каком состоянии здешние школы. Государство тратит лишь зрящные деньги, а юноши теряют прекрасное время. Если об этом говоришь, подвергаешься преследованиям, как протестант, а не говоришь — получается безобразие. На твоих глазах попираются интересы правительства и собственной твоей родины. Не путем увеличения жалования учителям можно улучшить это невыносимое положение, а путем введения хорошей организации, назначения знающих людей, поощрением тех, кто свое дело ведет с любовью и энергией. Я дал заветное слово покойному Парроту, незабвенному моему учителю и другу, никогда не бросать педагогическое поприще, даже если передо мной откроется самая соблазнительная карьера. Тем не менее теперь я почти вынужден делать этот шаг, поскольку одиннадцать лет я наблюдаю эту рутину и бессилен сделать что-либо против нее. Лучше одному иметь пятьсот учеников, чем воспитывать пятьдесят учеников при пяти учителях, которые ни на что не годны».
Это еще не прямая критика самодержавия, это не прямая революционная критика режима, но в этом настроении есть уже элементы, которые неминуемо должны сложиться в открытый протест. Только при свете этих смутных настроений становится понятным изумительно ясное для своего времени представление Абовяна о природе колонизаторского грюндерства великодержавных ташкентцев, наводнивших вновь завоеванную страну.
Были попытки прямого обвинения Абовяна в поддержке великодержавных тенденций царских чиновников. Однако нет ничего более оскорбительного для памяти Абовяна, чем такое обвинение. Думаю, без преувеличения можно сказать, что ни один из армянских публицистов за все время истории национал-демократизма не поднялся до такого ясного понимания антикультурной роли великодержавия, как этот ранний демократ. Он превосходно учитывал, что церковные застенки процветали и выдерживали всякие конкуренции только потому, что на другом полюсе было великодержавное пренебрежение к запросам основных масс трудящихся, а потому он непрестанно делал попытки отвоевать в казенных школах равные с русскими права для национальных языков. Причем эта здоровая просветительская борьба за обучение на родном языке тем и отличалась от трескотни всяких национал-каннибалов, что он с одинаковым рвением отстаивал этот принцип как для армян, так и для тюрок.