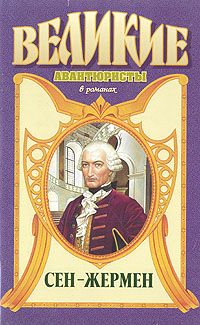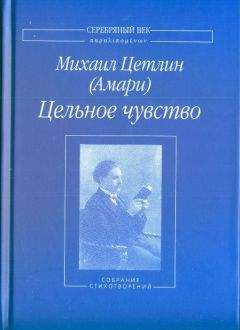Михаил Пупин - От иммигранта к изобретателю
К вечеру пароход приблизился к Карловцам и к Фрушкой Горе. Я невольно отдался воспоминаниям и развлекал моих сербских спутников рассказами о моей встрече с семинаристами одиннадцать лет тому назад, упомянув также и об исчезновении моего жареного гуся. Мой запас сербских слов был невелик, но тем не менее мне удалось заинтересовать студентов, просивших меня продолжать мои рассказы. Когда мне недоставало какого-нибудь слова, они подсказывали. К заходу солнца показался Белград. Его величественный вид наполнил меня каким-то воодушевлением, и моя речь потекла плавно. Я приветствовал Белград, как акрополис всех сербов, и выразил надежду, что, может быть, в недалеком будущем он станет столицей всех южных славян. — Это и есть одна из проблем передовой мысли в социальных и политических науках, в которой заинтересованы американские студенты, — сказал я, напоминая им об их вопросе, и добавил несколько иронических замечаний относительно передовых идей в социальных и политических науках, которые рождаются не в сердцах нации, а импортируются из кабинетов французских, немецких и русских теоретиков. Они быстро поняли то, что я назвал американской точкой зрения, но не возражали мне, боясь, как мне казалось, оскорбить меня.
Я не был в Белграде с тех пор, как видел его в детстве, и когда пароход приблизился к нему, я увидел его крепость, поднимающуюся над водами Дуная, как Гибралтар, и зорко смотрящую на бесконечные равнины Австро-Венгрии, которые, как широко разинутая пасть голодного дракона, казалось, угрожали поглотить ее. Всё, что я видел в Австро-Венгрии, казалось мне маленьким и неприглядным, но Белград предстал передо мной таким, как будто его гордая голова собиралась коснуться звезд. История многострадального сербского народа была связана с Белградом, и это поднимало его в моем воображении ввысь. Мне очень хотелось остановиться там и взобраться на вершину горы Авалы, вблизи Белграда, и оттуда послать свои приветствия героической Сербии, точно так же, как я послал приветствия героической Швейцарии со снежной вершины Титлиса. Но меня предупредили, чтобы я не прозевал последний местный пароход, шедшей в Панчево, и мне пришлось распроститься с белобашенным Белградом, как называют его сербские гусляры.
Когда местный пароход прибыл в Панчево, делегация молодежи, в которой был ехавший со мной из Будапешта сербский студент, перетянула меня на другой пароход. Он был заполнен публикой, похожей на веселую свадебную компанию. Панчевский хор певчих нанял этот пароход для себя и своих друзей для поездки в Карловцы, где на следующий день должно было состояться большое национальное торжество. Из Вены ожидался прах знаменитого сербского поэта Бранко Радичевича, где он, еще совсем молодым, умер тридцать лет тому назад. Его тело решили перевезти из Вены и похоронить неподалеку от Карловцев, на холме Стражилово, который был прославлен в его бессмертных стихах. Его стихи были призывом ко всем сербам хранить свои традиции и готовиться к национальному объединению. Сербские представители из всех стран должны были собраться в Карловцах, чтобы сопровождать прах знаменитого поэта к месту вечного покоя. Я, как бы представитель американских сербов, получил приглашение присоединиться к Панчевской делегации. Сербский национализм снова возгорелся в моем сердце.
Мы приехали в Карловцы ранним утром следующего дня. Многие делегации и певчие от Воеводины, Сербии, Боснии, Герцеговины и Черногории уже собрались. Это были нарядные группы молодцеватых юношей и красивых женщин в национальных красочных костюмах. Погребальная процессия началась сразу же после обеда. Хоры от главных провинций Сербии, идя в колонне, подхватывали по очереди торжественный похоронный гимн: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!»
Православная церковь не допускает инструментальной музыки в своих стенах. Те, кто имел удовольствие слушать русский хор, знают силу и духовную красоту их хорового пения. Сербское хоровое пение не уступает русскому. Ни одна музыка не действует на наши сердца так сильно, как музыка человеческого голоса. Певшие во время той процессии в Карловцах чувствовали, что они отдают свой последний долг светлой памяти национального поэта, и их голоса, как будто подхваченные крыльями их душ, поднимались высоко к небу. Эффект был огромный, почти у всех собравшихся на это национальное торжество на глазах были слезы. Раздробленная нация, объединенная слезами, представляла торжественное и воодушевляющее зрелище. У всех было сознание того, что эти слезы с восторгом впитывала жаждущая земля, питавшая корни сербского национализма. Нация, объединенная в песне и в слезах, никогда не потеряет своего единства. Если бы правительства в Вене и в Будапеште предвидели то воодушевление, которое вызвала похоронная процессия в сердцах участников этого огромного народного съезда, на который явились сербы всех частей раздробленной сербской нации, они никогда бы не разрешили его.
Когда пароход вернулся в Панчево, протоиерей Живкович, поэт и священник, который первый предложил мне перевестись из Панчева в Прагу, встретил меня на пристани со слезами радости на глазах. Он был нежным другом и наставником в моем отрочестве и всегда считал себя косвенным виновником моего бегства к далеким берегам Америки. Когда я поблагодарил его за ласковый прием, он сказал, что его прием был всего лишь угощением, тогда как мой приезд и мои рассказы об Америке явились праздником для его души. И если я правильно понял возбужденный блеск его глаз, то так оно несомненно и было. Ему было около шестидесяти, но глубокий взгляд его глаз был так же убедителен, как его волнующие стихи, написанные еще в молодости. — Скажи своей матери, — сказал он, — что я счастлив взять на себя всю ответственность за твой отъезд в далекую Америку. Она уже недалека от нас. Она теперь в моем сердце. Ты привез Америку к нам. Она была Новым светом в моей земной географии, теперь она стала новым светом в моей духовной географии. Его восхищение было так велико, что могло уничтожить весь результат беседы с Найвеном в Кзмбридже. Во время моих нескольких посещений протоиерея тем летом я должен был каждый раз повторять ему свои рассказы о Бичере и его проповедях. Он назвал его братом Жанны Д'Арк нового духовного мира. Его пламенным мечом, говорил он, была «Хижина дяди Тома».
Моя старшая сестра приехала с мужем в Панчево, и они повезли меня в Идвор. Когда мы достигли полей Идвора, я попросил их сделать крюк, чтобы проехать через пастбища и виноградники, где провел счастливейшие дни моего детства. Там, словно во сне, я увидел мальчишек Идвора. Они пасли, как и я когда-то, стада волов и играли в те же самые игры, в которые когда-то играл и я. Виноградники, летнее небо над ними и блестевшая в отдалении река Тамиш, где я учился плавать и нырять, выглядели по прежнему. Вскоре показался знакомый церковный шпиль Идвора, и звон колоколов, призывавших к вечерне, постепенно пробуждал у меня воспоминания, и мне было тяжело удерживать порыв нахлынувших чувств. Когда мы медленно проезжали по маленькому Идвору, всё выглядело точно так же, как одиннадцать лет тому назад. Новых домов не было, а старые казались такими, какими они были прежде. Люди занимались той же самой работой, какая обычно исполнялась в это время года. Когда мы подъехали к сельской площади, я увидел широко открытые ворота родного двора — это был признак того, что мать ожидала дорогого гостя. Она сидела одна на скамейке, под деревом, перед домом, смотря в ту сторону, откуда я должен был появиться. Когда она увидела нашу повозку, я заметил, как она быстро поднесла белый носовой платок к глазам, и моя сестра прошептала мне: «Мать плачет!» Я спрыгнул с тележки и кинулся к ней, чтобы обнять ее. О, как чудесна сила родных объятий, как ясно наше духовное зрение, когда поток слез очищает душу. Любовь матери и любовь к ней являются сладчайшей вестью Бога живущим на земле!