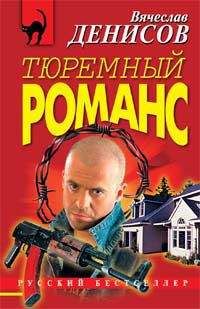Александр Шмаков - Каменный пояс, 1977
Он уже давно привык провожать звезды и встречать зори и начинать рабочий день минута в минуту.
Теперь лето на редкость теплое, безветренное, урожайное. Ночи короткие — заря с зарей сходятся.
Весь пригород еще спит. Но вот радио начинает утреннюю побудку — бой кремлевских часов. Павел Ильич выходит босиком на крыльцо. С карниза к нему слетают голуби. Он кидает им пригоршню зерна. Голуби торопливо долбят корм, а он, жмурясь, глядит на восход и на город, потом открывает калитку и садится на лавочку под широколистным и могучим тополем.
Когда-то, лет тридцать назад, здесь был голый косогор. Оранжево-красная глина, еле прикрытая черноземом, топкая в непогоду и каменная в засуху, отпугивала людей.
А Павел Ильич поселился тут первый, своими руками справил дом и тогда же посадил тополь, как олицетворение дружбы между землей и человеком, труд которого земля любит.
И пошли вслед за Павлом Ильичом люди селиться на этом косогоре, сажать тополя, разводить сады, несчастный этот участок земли обновили, украсили свои дома резными карнизами, верандами, многоцветьем оконных ставен и тесовых ворот, всем необходимым для довольства и долгой жизни. Далеко вниз, к густым черноталам на берегу реки, протянулась теперь просторная улица, наполненная сладким запахом зреющих яблок, и нет числа цветущим в палисадниках георгинам и гладиолусам.
А первый тополь, выращенный Павлом Ильичом и давший начало всему прекрасному миру в округе, первый же встречает и солнце: яркие огоньки вспыхивают сначала на вершине, затем осыпаются ниже, в гущину листвы, покрывают позолотой потрескавшуюся кору на стволе. В этом праздничном веселом наряде, под тихим утренним ветром, всякий раз тополь кажется Павлу Ильичу необыкновенным чудом, без которого любая радость была бы не в радость.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ВЕШКА
Еще до войны была здесь обыкновенная деревенская улица: унавоженная, с бурьянами возле прясел и притонов, с полусонными курами, изнывающими от жары в тени палисадников.
Теперь улицы нет. Осталась тут лишь проезжая дорога да одна древняя изба под дерном, кособокая, подслеповатая. Окошки у нее узкие, с треснувшими, заклеенными бумагой стеклами, и похожи они на старческие глаза с бельмами, унылыми на темном, перепаханном морщинами лице.
От прежних дворов ничего не осталось. На заросших копытень-травой, лебедой и крапивой полянах виднеются кое-где ямки от погребов и подпольев, а также расчерченные чуть заметными бороздами бугорки огородных гряд, где росли когда-то картошка и лук. Время стирает и эти приметы.
А древняя изба одна-одинешенька стоит, ничего вокруг нее не тронуто — ни бурьяны, ни таловые плетни, и такой же древний сидит на обвалившейся завалинке, греясь на полуденном солнышке, старик Наум.
Он уже ничего не помнит из жизни и ничего не видит, только слух не изменил ему. Старик чутко улавливает, как квохчет наседка, сзывая цыплят, как на озере гомонят ребятишки, купаясь, как тарахтит в поле трактор и как за углом пригона, спасаясь от овода, жует жвачку теленок.
По дороге, оставив хвост пыли, промчался молоковоз.
— Ишь, это Гринька опять повез удой с фермы на завод, — шамкает беззубым ртом Наум. — Гонит-то как! Вот, значит, уж полдник.
Неподалеку от избы, на перегноях, по обе стороны дороги широко раскинулся совхозный сад. Собирая в корзины черную смородину, бригада молодых женщин перекликается, разноголосо и певуче, но Наум не любит прислушиваться к женским разговорам, находя их пустяшными.
— Ишь, белобоки-сороки! — поругивается он про себя. — Из-за них абы рабочее дело не проворонить…
У него только и радости, что слышать, как совершаются рабочие дела, он их узнает сразу, еле донесется до его уха не только шум, скрежет, рокот машин, но и удар молота по наковальне в кузнице, и перестук топоров на стройке новой фермы, и еще многое другое, чем наполнен в совхозе весь длинный день.
Новая деревенская, вернее, теперь совхозная улица начинается тотчас за садом, на угоре, вдоль песчаного берега озера. Каменные дома, одноэтажные и двухэтажные, с балконами, верандами, с палисадниками, огороженными низким штакетником, выстроились в один ряд, и строй их замыкает повернутый фасадом к дороге Дворец культуры.
Наум как-то ходил туда, щупал каменные стены руками, хвалил добротность, но когда директор совхоза хотел переселить его из избы в один из таких домов, в чистоту и уют — наотрез отказался.
— Не-е, меня, слышь, не неволь! Как же буду я без полатей, без печи, без завалинки? Не-е…
Из уважения к его древности, чтобы не унес он из жизни обиду, избу оставили, и стоит эта изба-вешка, как памятник былой скудости и нужде.
ГЕННАДИЙ КОРЧАГИН
ОСЕНЬ РОНЯЕТ ХОЛОДНЫЕ СЛЕЗЫ
Вот отсверкали лучистые грозы.
Ниже спускается облачный круг.
Осень роняет холодные слезы.
Птицы торопятся снова на юг.
Рощи буранят листвой золотою.
В стынь серебрится отава в лугу.
Тихо. Я в царство иду голубое,
В горнице теплой сидеть не могу.
Вижу сквозь белые ветки березок:
Грузно склонились в степи ковыли.
Слышу я, будто под шепот морозов
В небе прощально кричат журавли.
Хочется крикнуть в небесные дали:
Птицы мои, не тоскуйте по мне.
Счастлив я тем, что на Южном Урале
В осень шагаю навстречу весне!
РАМАЗАН ШАГАЛЕЕВ
Если скучен, нем и пуст
Твой без птиц остался куст,
То не думай, что пусты
И соседние кусты.
Если высох навсегда
Тот ручей, где пил ты воду,
Не пеняй на всю природу —
Есть в других ручьях вода.
Перевел с башкирского С. Борисов
МИХАИЛ ТРУТНЕВ
САПОГИ
И я когда-то тоже был солдатом
И не забыл тот полдень до сих пор,
Как мне на складе вместе с автоматом
По списку выдал сапоги каптер.
В нас смерть огнем кинжальным била косо,
Пытала орудийная гроза,
Но всем живым служила без износа,
Добротная армейская кирза.
И в час, когда смолкали батареи,
Делили мы трофейный гуталин,
Чтоб в скороходах нам дойти до Шпрее,
Чтоб в них вступить в поверженный Берлин.
Полсвета мы прошли и победили,
Умолк над Эльбой пулеметный треск.
Весенним днем всей ротой наводили