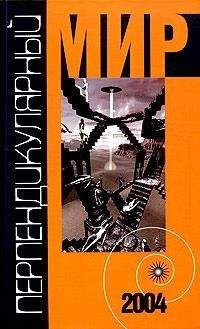Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век
Лапин наверняка делился с Мандельштамом впечатлениями о маршрутах своих сменявших одна другую восточных поездок. Предположение, что Осип Эмильевич был знаком с его прозой, неизменно основанной на материале этих путешествий, — прозой, стыдиться которой автору не приходилось, как и ожидать, что она рассорит его с Мандельштамом, — не кажется слишком смелым, хотя фактическими подтверждениями этому мы не располагаем…
Последняя встреча Лапина с Мандельштамом (февраль — март 1938-го) состоялась перед отъездом Мандельштамов в Саматиху, где 1 мая Осип Эмильевич был арестован. Ее упоминает Н. Я., перечисляя, какие именно книги Мандельштам взял с собой с Саматиху: «ОМ привез с собой Данте, Хлебникова, однотомник Пушкина под редакцией Томашевского, да еще Шевченко, которого ему в последнюю минуту подарил Боря Лапин».
Эренбург приводит в мемуарах слова, сказанные ему Лапиным в начале 1938 года: «Я пишу о пустыне Гоби… Когда я писал „Тихоокеанский дневник“, „Подвиг“, я выбирал темы — писал, как жил. Теперь иначе… Мне бы хотелось написать про другую пустыню, но это невозможно… А нужно работать — иначе еще труднее…»
О гибели Мандельштама Борис Лапин узнал, по-видимому, в начале 1939 года. А летом 1939-го Лапин и Хацревин были отправлены военными корреспондентами на озеро Халхин-Гол (Монголия), в район боевых действий против японских войск, где показали себя людьми бесстрашными. С начала Отечественной войны Лапин — военный корреспондент «Красной звезды». В последний приезд в Москву в августе 1941 года он по памяти записал в беловую тетрадь свои ранние стихи, после чего вместе с Хацревиным отправился на Юго-Западный фронт. Лапин погиб в сентябре 1941 года, при наступлении немцев на Киев, в окружении, отказавшись бросить Хацревина, которого свалил сильный приступ болезни. Последние его слова, которые сохранили очевидцы, были: «У меня есть револьвер».
В 1942 году известие о гибели Лапина достигло Средней Азии. 11 июля Н. Я. Мандельштам написала ее и Осипа Эмильевича другу B. C. Кузину: «В Ташкенте я со дня на день не перестаю считать потери: Борис Лапин, художник Тырса…», а 28 июля С. П. Бобров из Ферганы писал Илье Эренбургу: «Мы с женой огорчились известием о Боре Лапине — ведь мы так давно его знаем, еще совсем мальчиком, так всегда радостно следили за его ростом, за его успехами! Ах, Боже мой! С какими ужасными потерями приходится мириться».
Б. М. Лапин
Обложка книги стихов Б. Лапина
Автограф В. Я. Брюсова на его книге «Дали» (Москва, 1922)
Стихотворение Б. Лапина «Лес живет», записанное О. Мандельштамом
Автограф военного корреспондента на Халхин-Голе (в Монголии) К. Симонова на книге «Дорожные стихи» (Москва, 1939) боевому товарищу: «Дорогому монголу Боре Лапину с крепким рукопожатием дарю эту книгу 26.XI.1939 Костя»
Б. М. Лапин (справа) и З. Л. Хацревин. Под Киевом, август 1941 г.
Золотая пчела (Овадий Савич)
«В 1922 году в Книжную лавку „Содружество писателей“, помещавшуюся на Тверской, зашел чрезвычайно учтивый и необычайной внешности молодой человек. Он был красив, с матовым, бледным лицом, элегантно одет — в пору, когда все мы носили полушубки и валенки или перекроенные красноармейские шинели…»
Через тридцать лет другой беллетрист, встретив этого человека в доме Ильи Эренбурга, увидел его почти таким же: «Он был хорош собой — с бледным матовым лицом, с седой шевелюрой, с мягкими движениями, неторопливый, сдержанно-ровный… Он был похож на государственного деятеля западного типа — министра, дипломата. Сходство обманывало. Его светлые глаза под глубокими надбровными дугами смотрели на мир задумчиво, внимательно, немного грустно…»
Уже не осталось никого, кто знал его стихи и прозу в 20-е годы, кто встречал его в модных теперь кафе Монпарнаса в 30-е (последней об этом вспоминала Н. Берберова в своем «Курсиве»), погибли и умерли участники испанской войны, восхищавшиеся его благородным мужеством, покинули мир большие поэты, чьи стихи его мастерство и любовь сделали русской поэзией…
Савич, само изящество,
ты повсюду
от храма на Красной площади
до квартир близ Аэропорта
или в кварталах Арбата, таинственных и поныне,
переливал вино моего Чили
в гулкий бурдюк своего языка.
Савич, с тобою погибла золотая пчела,
приносившая издали мед в мой улей!
Мой нежный друг, мой верный товарищ!
Это — из элегии Пабло Неруды, переведенной Львом Осповатом.
Сегодня Овадия Герцовича Савича (17 июля 1896—19 июля 1967) благодарно помнят лишь почтенные испанисты, чья молодая стайка окружала его в послевоенные и «оттепельные» годы, учась мастерству, культуре, доброжелательности, благородству…
В конце 1923 года Савич заполнил литературную анкету, никогда не публиковавшуюся: «Родился в 1896 где-то около Варшавы. С четырех лет живу в Москве. Кончил III гимназию. Война исключила из третьего курса Университета. Был солдатом, не имеющим права на производство. До революции — 2 и после революции — 3 года был актером. Ничего не вышло и очень надоело. Ездил по России и бывал за границей.
С детства писал стихи, но прозы боялся: написать рассказ казалось труднее, чем построить дом. Когда бросил сцену, охватила тоска по перевоплощению. Может быть, и со сцены ушел оттого, что приходилось играть, в конце концов, — только самого себя. После первого случайно написанного рассказа забыл о стихах, о сцене, вообще — обо всем, о всяком ином занятии. Думаю, что для себя нашел правильный путь. Больше всего люблю наблюдать и потом, стасовав свои наблюдения, по-своему разложить фантастическую колоду жизни. Выдумать человека и сделать его живым. Рассмешить, влюбить и заставить плакать. Не боюсь этого слова: я — романтик. Но то, о чем пишу, всегда знаю.
Печатался мало — это надо уметь, а я не умею. Книги: „По холстяной земле“, повесть, Книгоиздательство писателей, Берлин, 1923, и „Плавучий остров“, книга рассказов — печатается».
Дополним эту справку самым необходимым.
Родители Савича рано разошлись, и его вырастила (и привила любовь к книгам) мать, Анна Тимофеевна, любившая сына самозабвенно и мудро. В начале 20-х годов ей удалось уехать в Германию, а в 1924 году Савич с молодой женой также поселяется в Тюрингии, а затем в Берлине; в 1929 году, уступая настоянию своего друга Ильи Эренбурга, Савич переезжает в Париж. С той поры он бывает у матери лишь наездами. (А. Я. Савич рассказывала мне о ежегодных встречах Нового года в берлинском доме свекрови, куда из Парижа приезжали Савичи и Эренбурги, а из Праги — Роман Якобсон…) В середине 30-х мать Савича уезжает из гитлеровской Германии в США, и с 1939 года вернувшийся за «железный занавес» Савич ничего не знал о ее судьбе, пока в 1946 году Анну Тимофеевну не разыскал в Нью-Йорке Эренбург.