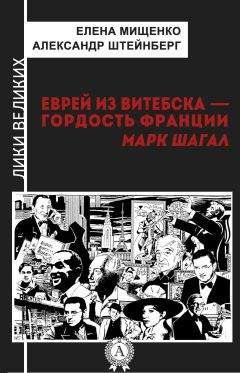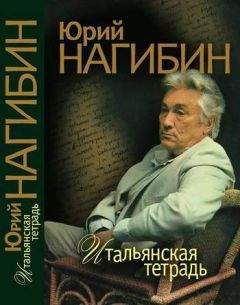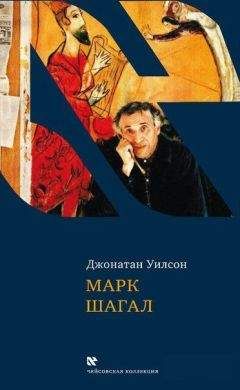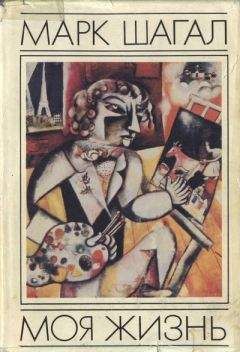Мария Бекетова - Александр Блок. Биографический очерк
Удовольствие мне доставляют твои довольно редкие письма и редкие минуты, когда я остаюсь один (например, вчера к вечеру в поле на лошади).
О XIX веке я все-таки не меняю мнения, да и сейчас чувствую его на собственной шкуре – меня окружают его детища. Есть и ничтожные, есть и семи пядей во лбу, в одном только все сходны: не чувствуют уродства – своего и чужого. Таковы и эстеты и неэстеты, и «красивые» и «некрасивые».
15 декабря: «Не пишу, кажется, давно, потому что у меня исключительно много работы (Идельсон болен инфлуэнцей), я заведую партией вместо него. Сижу в конторе с утра часов до 7-ми, а потом начинается ужин, шахматы и пр. Работа бывает трудная, но она скрасила до некоторой степени то, о чем я тебе писал…
В отпуск я не поеду… Пока конца нет, пожалуй, здесь лучше, только очень уж одиноко и многолюдно. Я просто немного устал. Очень много приходится ругаться.
Природа удивительна. Сейчас мягкий и довольно глубокий снег и месяц. На деревьях и кустах снег. Это мне помогает ежедневно. Остальное все – кинематограф, непрестанное миганье, утомительное «разнообразие». В конце письма приписка: «За переговоры со Струве я тебя очень благодарю, результату их очень рад» [214] .
В коротком письме от 18 декабря говорится о длинной поездке в город Лунинец на автомобиле: «Я чувствую себя хорошо. Сегодня ночью горел лесопильный завод у нас, а сегодня – на автомобиле – все это развлечение…» – 27 декабря: «Кроме дела, начались праздники, и все мы находимся в вихре светских удовольствий, что пока приятно, а иногда очень весело. К сожалению, все вечно болеют и валяются в кроватях… Я чувствую себя очень хорошо»…
1 января 1917 года: «Мама, вчера я получил твое письмо и Любино, третьего дня – тетино и от Жени. Все письма невеселые для меня… Вообще ужасно тревожно и лучше было вчера к вечеру, так что я склонял всех вместе встретить год. Действительно, уж мы его встретили, встречали сегодня до 8 час. утра и мрачное прошло, но сейчас уже опять беспокойно. Я очень беспокоюсь о тебе, также – о Любе…
Пиши мне чаще (или тетя) о твоем здоровье. Мне вообще здесь трудно, и должность собачья, и надоело порядочно, а без писем особенно трудно».
Блок недаром чувствовал себя так тревожно и мрачно перед Новым годом. Ухудшение нервной болезни его матери, которое началось еще с лета, дошло до апогея. Перед самым Новым годом я советовалась с доктором психиатром, которого пригласила потом к сестре. Он настаивал на санатории. Собрав нужные сведения, решили везти ее в чеховскую санаторию около станции Крюково, Николаевской ж. д.
7 января 1917 года Блок пишет: «Мама, эти дни я получаю письма твои и тетины – о болезни, о докторе, о санатории. Да, я думаю, что в санаторию тебе хорошо поехать, и что, может быть, в Крюкове хорошо… Главное, что за этим может последовать облегчение, хотя бы некоторое; если это совпадет с поумнением всего человечества (на что надежды мало, по крайней мере, сейчас), можно будет подумать, наконец, и о жизни и для тебя и для меня… События окончательно потеряли смысл, а со смыслом – и интерес. Мож. быть, я тоже устал нервно, к тому же – немного болен, сижу в комнате дня три (бронхит и осип так, что говорю шепотом, раскашлял и разругал горло)».
8 января к вечеру: «Мама, сегодня я чувствую себя гораздо лучше и почему-то веселее. Мож. быть, потому, что я сидел весь день за работой почти один… Бронхит проходит, я все время принимаю лекарство, сделанное для меня земврачихой, посещающей меня (прикомандирована к нам). Очень хорошее средство».
В письме от 17 января Блок уговаривает мать скорее ехать в санаторию и выражает сожаление, что разные экстренные дела и неприятности по службе задерживают его отпуск и не дают ему возможности увидеться с матерью перед ее отъездом в санаторию. «Господь с тобой, – пишет он в конце письма, – не думай о мелочах, представляй себе все в гораздо более крупных ( нелепо крупных) масштабах – это символ нашего времени».
Комнату в санатории «Крюково» наняла тетка Блока Соф. Андр. Отвез Ал. Андр. Фр. Фел., который нарочно приехал для этого в отпуск. Мать Блока уехала в начале февраля. На первое письмо матери из санатория Ал. Ал. ответил 14 февраля 1917 года. Он успокаивает ее относительно тех неприятностей, которые у него были: «Все, по-видимому, обойдется… зато теперь пришли военные и выставили нас почти из всех помещений, в т. ч., из княжеского дома. Сейчас мы ютимся пока в конторах… Пахнет весной уже два дня. Масляницу мы с Надеждиным [215] заканчивали в 3-х отрядах, ели отчаянно много, гораздо больше, чем пили, ночевали на чужих кроватях и без конца ездили на лошадях по снежным лесам и равнинам. Это последнее для меня всегда освежительно, но мне сравнительно редко удается это делать, потому что я фактически давно уже почти всегда заведую партией, тщетно мечтая о своем запущенном отделе… Я бы хотел, если все уладится, съездить в отпуск, – в Пет<роград> и в Крюково, а если понадобится – и в Москву».
21 февраля: «Мне скверно потому, главным образом, что страшно надоело все, хотелось бы, наконец, жить, а не существовать и заняться делом… Писать трудно, потому что кругом орет человек 20, прибивают брезент, играют в шахматы, говорят по телефону, топят печку, играют на мандолине – и все это одновременно (а время дня – «рабочее»!)».
24 февраля: «Наш барак стоит почти в открытом поле; потому приятно смотреть в окно во все часы. Поле покрыто глубоким снегом, идет вверх, на близком горизонте кучки деревьев (сосен). Это те песчаные бугры, с которых летом иногда можно видеть Пинск. Туда уходит дорога с военным телеграфом, который поет от ветра, там идут длинные обозы без конца, уже много дней. Барак разделен на чуланы, мы живем с Идельсоном, Харуцким (зав. телефонами) и дежурным телефонистом… В 8 часов утра поднимается гвалт, потому что все вокруг встают. Приносят чай, умыванье, все бреются и долго валандаются. Обедать и ужинать (в 1 ч. и в 8 ч) ходят в дом священника в деревню, а среди дня пьют еще чай, где придется. В нашем чулане (всего аршина 4 в шир. и арш. 7 в длину) процветают шахматы, все приходят играть… На потолке украшения – сосновые ветки».
1 марта: «Здесь все по-прежнему – надоело все всем. Единственно, что меня занимает, кроме лошади и шахмат, – мысль об отпуске, который я оттягиваю, отчасти из-за того, чтобы использовать его лучше (увидеть Любу, которая, кажется опять уехала в Москву…).
Несмотря на то, что это болото забыто не только немцами, но и богом, здесь удивительный воздух, постоянные перемены ветра, глубокий снег, ночью огни в деревенских окнах, все это – как всегда – настоящее. Сегодня ночью, например, мы услыхали, что на фронте началась частая стрельба, заработали прожекторы и ракеты, горизонт осветился вспышками снарядов; мы сели на лошадей и поехали на холмы к фронту; пока ехали, разумеется, все прекратилось, но ехать было очень приятно и интересно. Ночь темная, тропинка в снегу, встречные деревья и кусты принимаешь за сани, кажется, что они движутся, остовы мельниц с поломанными крыльями, сильный ветер. Мне прислали, наконец, ту лошадь, на которой я ездил в 1 отряде, очень ее люблю, у нее английская головка».