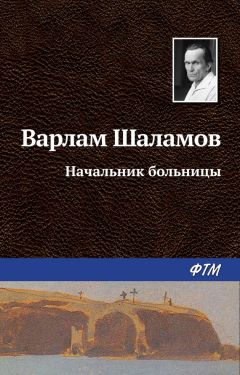Ибрагим Нуруллин - Тукай
Очевидно, на этом же заседании решили провести литературно-музыкальный вечер в пользу газеты «Эль-ислах». И чтобы сделать сбор, уговорили Тукая прочесть на нем новую поэму.
Вечер состоялся 14 октября в зале Купеческого собрания, где ныне помещается казанский ТЮЗ.
Перед началом Тукай казался встревоженным, взволнованным. Он подошел к одному из товарищей, наблюдавших за порядком, и спросил: «Посмотри-ка, Карахмет не пришел?» Заметив недоумение на лице товарища, он пояснил с усмешкой: «Ты что, не видел, какие у него кулачищи?»
Для Габдуллы, который тяжело переносил любой пренебрежительный взгляд, даже намек на жалость, сама мысль, что на него могут поднять руку, была оскорбительна. А фантазия работала быстро. Как бы там ни было, Тукай выступил.
Успех был грандиозным. Чтение то и дело прерывалось смехом. Амирхан писал своему другу: «Публика от смеха надорвала животы, а Тукаева непрерывно награждали аплодисментами».
Тукай писал «Кисекбаш» для журнала «Яшен», но товарищи убедили его, что выпускать поэму по частям — только портить впечатление. Ее надо издать отдельной книгой. Тукай согласился и отдал поэму Гильметдину Шарафу.
Ловкий и энергичный Гильметдин выпустил ее пятитысячным тиражом через неделю. Весь огромный по тем временам тираж разошелся в течение месяца. Шараф пишет, что из двадцати изданных им до 1914 года книг ни одна не имела такого успеха.
,Единодушна была и вся прогрессивная критика. Фатых Амирхан, одним из первых откликнувшийся на поэму, писал: «Познакомившись с последним произведением Г. Тукаева и его юмористическими стихотворениями в журнале «Яшен», мне хочется сказать ему, что отныне он стал крупнейшим мастером юмора во всем татарском мире».
Глава пятая
Звуки печального саза
1
В стихах 1909—1910 годов Тукай пишет о боли своей израненной души.
Что свершил на этом свете? Право, не на что взглянуть!
Только ясно мне, что где-то мимо — настоящий путь.
В песне есть ли толк народу, не пойму я никогда.
Кто? Шайтан иль ангел света с песнями идет сюда?
Как бы тяжко ни приходилось Тукаю, никогда прежде его не посещали сомнения в полезности дела, которое он делает. Но наступила эпоха столыпинской реакции — освободительное движение было разгромлено, страна залита кровью, воцарились гнетущая тишина и молчание. Казалось, этому не будет конца.
Духота какая! Нечем мне дышать.
Что мне дальше делать, надобно решать.
Если хватит силы, — мрак тюрьмы покинь,
А не хватит силы, — сдайся, сдохни, сгинь!
Единственным, что связывало его с жизнью, оставалось творчество.
Когда за горем — горе у дверей
И ясный день ненастной тьмы темней;
Когда сквозь слезы белый свет не мил,
Когда не станет сил в душе моей, —
Тогда я в книгу устремляю взгляд,
Нетленные страницы шелестят.
Чрезвычайно мрачным стихотворением «Татарскому писателю» открывает Тукай и 1910 год. Весною, когда просыпается природа, он пишет стихотворение «Отчаяние».
На мир, испорченный вконец, о солнце, больше не свети!
Стань кругом черным, закатись, не сей живую благодать!
И наконец, глухой осенью 1910 года из-под его пера выходит «Разбитая надежда». Имея в виду это стихотворение, Максим Горький в письме к Сергееву-Ценскому писал: «Вы жалуетесь, что проповедники хватают за горло художников. Это ведь всегда было. Мир не для художников, — им всегда было тесно и неловко в нем, — тем почтенней и героичней их роль. Очень хорошо сказал один казанский татарин-поэт, умирая от голода и чахотки: «Из железной клетки мира улетает, улетает — юная душа моя»... В повторении «улетает» я слышу радость. Но лично я, разумеется, предпочитаю радость жить: страшно интересно это — жить». В этих словах содержится точная оценка и душевного состояния Тукая, и причин, его вызывавших.
Читая эти стихи, можно предположить, что целых два года Тукай предавался лишь отчаянию и думам о смерти. Так, конечно, не бывает. Сам Тукай говорил: «Див и тот не выдержал, если бы постоянно был объят пламенем горя».
За 1909—1910 годы поэт написал около ста стихотворений, две стихотворные сказки, автобиографический очерк «Что я помню о себе», статью о татарском народном творчестве, около тридцати фельетонов и рецензий, выпустил в свет двенадцать книжек. Само обилие бед, сыпавшихся на него одна за другой, не позволяло, замкнуться в отчаянии, он вынужден был им противостоять.
Над своей смеюсь печалью и смеяться буду впредь, —
Слезы высохли от горя, и не в силах я скорбеть.
Как смертельно уставшему человеку твердый камень кажется мягче пуховой подушки, а голодному — корка черствого хлеба вкуснее райских яств, так маленькие радости могли вдохновить Тукая на создание пронизанного светлой надеждой стихотворения. Бывало, после мрачных, отчаянных строк из-под его пера выходили строки, проникнутые светлым юмором. Или, наоборот, после жизнерадостных нот следовало нечто горестное, заунывное.
В стихотворении «После страданий» Тукай говорит:
В этот миг наполняют отрада и гордость меня,
О страданьях своих с благодарностью думаю я.
Разве горе минувшее не было к счастью ключом?
К цели светлой ступенями? Мглой перед первым лучом?
Поэзия не давала ему замкнуться в отчаянии, продолжала связывать с миром, с людьми. Тукай прежде всего считал себя борцом, и его талант был призван служить общественным идеалам. Он не мог молчать, когда идейные враги внутри нации и вне ее пытались залить тот огонь, который был зажжен в сердцах тысяча девятьсот пятым годом, он сражался с ними из последних сил оружием сатиры.
И все же 1909—1910 годы были самыми мучительными в его жизни.
Многие из тех, кто еще вчера кричал о своей готовности «умереть за свободу», попрятались по углам. Одни принялись торговать, другие шли на службу куда угодно, лишь бы за это хорошо платили. Иные подыскивали себе невест побогаче. Какие уж там идеалы! У кого перо побойчее, пристроившись в коммерческих газетах, брались за любой заказ.
У нас писатель лишь начнет писать,
Бросается немедля торговать, —
с горечью замечал Тукай.
Силы людей, продолжавших противостоять реакции, таяли день ото дня. Если бы среди отступников были только люди, не занимавшие заметного места ни в литературе, ни в общественной жизни, это бы еще куда ни шло, — когда из телеги выпадает лишний груз, коню только легче. Но не успел Тукай пережить поступок Галиасгара Камала, нанявшегося секретарем в газету «Юлдуз», как Сагит Рамиев, и того хуже, подрядился на службу в черносотенную «Баян эль-хак», которую издавал Ахметзян Сайдашев. Падение Сагита Рамиева было для Тукая тяжким ударом. Он почитал его как публициста и поэта, похвально отзывался о его стихах. Совсем недавно Рамиев осыпал проклятьями и правительство, и баев со страниц «Танг юлдузы», «Тавыща» и «Танг меджмуасы», когда эти издания закрылись, на какое-то время примкнул к «Эль-ислаху», теперь же, вольно или невольно, поставил свое перо в услужение реакции.