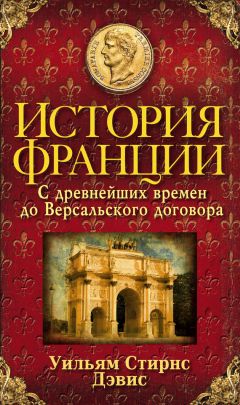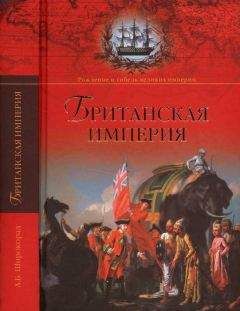Уильям Манчестер - Стальная империя Круппов. История легендарной оружейной династии
Столкнувшись с цепью катастроф, Альфред попросту сбежал. Он вскочил на первый попавшийся поезд и безо всякой цели помчался в Кобленц, Хайдельберг, густонаселенный Шварцвальд. Чтобы перевести дух, он остановился в Карлсруэ, этом старомодном городе с особенным тевтонским источником вдохновения. Но Германия для Круппа была недостаточно велика. Разве не он устроил бойню для храбрых канониров своей собственной страны? Его посадят в тюрьму как маньяка-убийцу! Что говорит король? А Роон? Старый вельможа будет пренебрежительно напоминать Потсдаму, что он это предсказывал; что бронза, по крайней мере, не взрывалась. Покрывшийся испариной Альфред купил билет в Швейцарию. По пути он написал Роону жалостливую, виноватую записку:
«Берлин, или резиденция Его Величества короля.
К о н ф и д е н ц и а л ь н о. Л и ч н о.
Ваше превосходительство,
испытывая радость по поводу замечательного успеха нашей несравненной армии, считаю необходимым признаться в охватившем меня горе от только что полученных мною сообщений, что в случае с двумя 4-фунтовыми орудиями зарядный механизм разорвался в бою и то же самое произошло… с 4– и 6-фунтовым орудием…»
Далее следуют оправдания. Сэр Генри Бессемер был свиньей. Дефект находился в тех частях орудия, которые были изготовлены из «неподходящего материала, поставленного не мной». Тем не менее, он хотел быть справедливым. От этого не уйдешь, пушка «не должна подвергать опасности тех, кто ее обслуживает». Злодей предлагал бесплатно заменить все стальные орудия Пруссии, и письмо было отправлено проводником в то время, как его кающийся и покрытый пеплом автор в непривычной мешковатой одежде отправился в ссылку.
Ссылка предстояла долгая. Он не возвращался целый год, потому что в Берне прочитал, что демобилизованные солдаты завезли в Рур холеру – от нее умер его собственный главный конюх, – а у него и без этого достаточно неприятностей. Ему нужны спокойствие и утешение. Одним словом, ему необходима жена. К ее ужасу, он объявился в Ницце, подавленный горем и нелепый в своем новом парике. Врач Берты оставил нам острое описание его прибытия в Шато-Пельон. Оно угнетает; старожилы глазели на худого, сурового беженца и не решались приблизиться к нему. Ему было пятьдесят четыре года, но он уже выглядел стариком. Доктор Кюнстер, который встречался с ним раньше, писал: «Это был неудачник, который повсюду привлекал внимание своим незаурядным ростом и поразительной худобой. Когда-то его черты были вполне обычными, даже привлекательными, но он быстро постарел. Лицо его стало безжизненным, бледным и морщинистым. На голове остатки седых волос с хохолком. Он редко улыбался. Почти все время его лицо оставалось каменным и неподвижным».
Приезд туда оказался ошибкой. Он был более одинок, чем когда-либо. Не с кем было разговаривать. Слухи о том, что над париком выросли невидимые рога, весьма спекулятивны. Конечно, в те времена у фрау Крупп были возможности для любовных афер, и фотографии намекают на произошедшую в ней удивительную перемену: с них смотрит полногрудая, энергичная женщина тридцати с небольшим лет, которая кажется чувственной, раскрепощенной. (Однако, если вглядеться в ее лицо, улавливаешь беспокойство; она либо несдержанна, либо – другая определенная возможность – глубоко встревожена.) Не исключено, что это вина фотографа. Не имеет значения. Целомудренная, опрометчивая или сумасшедшая, она отдалилась от Альфреда. Его больной сын был чужим, а остальные обитатели шато были скучны или противны. Он стал ссориться с одним ленивым родственником Берты. Согласно Кюнстеру: «Крупп, несомненно, гений в том, что касается техники… но в остальном он человек крайне ограниченный. У него не вызывает интереса ничто из того, что не связано с его профессиональной деятельностью. Вследствие этого он пришел к выводу, что родственник его жены Макс Брух, который впоследствии стал знаменитым дирижером, терял время, посвящая его музыке. Если бы Брух был техническим специалистом, заметил Крупп со всей серьезностью, он мог бы принести какую-то пользу и себе, и человечеству, но как музыкант – вел совершенно бессмысленное существование… Он думал, что для него нет недосягаемого, если он положил на что-то глаз. Карьера вознесла его самоуверенность до такой степени, что временами его поведение граничило с манией величия. Он мог вести себя вполне благородно. Но в то же время был способен на низкие поступки».
Крупп собственноручно подвел итог своим суждениям о духе германского культурного гения: «Мне не надо спрашивать Гете или кого-либо еще о том, что на этом свете правильно. Я сам знаю ответ на этот вопрос и не считаю, что кто-то вправе знать это лучше».
Его работа всегда была для него спасением. Но сейчас это мало помогало. В ноябре того года он размышлял о том, как восстановить свою репутацию, предлагая своим дилерам вступить «в контакт с редакторами респектабельных газет». Но сердце его к этому не лежало. «Пушечный король» казался свергнутым с трона. Даже когда выяснилось, что ситуация не настолько плоха, как он думал, выздоровление затягивалось; год спустя он отметил, что его «все еще часто мучают головные боли». Потом мало-помалу он пришел в себя. Опять начал покупать подарки – породистых лошадей для иностранных заказчиков и, если это были монархи, посылал им отделанные серебром орудия. Всем этим, однако, он руководил из Ниццы, а на далеком металлургическом заводе рабочие начинали удивляться, что произошло с их фельдмаршалом. Крупповцы его видели редко – только во время мимолетных наездов. После сорока лет у руля на круглосуточной вахте он покинул корабль. Это было странно и явно выходило за пределы катастрофы в Кенигграце. Возможно, у него выработалось отвращение к своим цехам, возможно, он надеялся снова завоевать Берту. В любом случае еще долго после того, как эпидемия холеры закончилась и на фабрику вернулось процветание, он продолжал скакать по курортам – бескровный, эксцентричный, неопрятный индюк, преследующий свою тень по всей Европе и оставивший полномочия по руководству фабрикой в Эссене прокуре – совету управляющих из четырех человек. «Состояние здоровья не позволяет мне беспокоиться по поводу дел завода», – писал он им с голландского приморского курорта и в связи с этим предлагал обдумать, как ему лучше всего перейти от «активной жизни к будущему вечному покою».
Сколько пребывал бы он в хандре, если бы не вмешались внешние обстоятельства, – этот вопрос остается открытым. В его жизнь постоянно вторгались события, потому что он был производителем стали, потому что это был Стальной век и почти ежедневно какой-нибудь изобретательный молодой инженер встряхивал калейдоскоп прогресса и создавал блестящую новую модель. В долгосрочном плане Альфред должен был процветать, так же как его отец должен был потерпеть провал. История была на его стороне. Если бы кто-нибудь усовершенствовал бессемеровский процесс, это изобретение, безусловно, было бы привлечено к источнику кокса – к Руру, иными словами, к Круппу. Пока он, полный недовольства, изнывал рядом с щеголеватыми друзьями Берты на Ривьере, Карл Вильгельм Сименс усовершенствовал мартеновскую печь в Англии, добившись изменений в расплавленном чугуне и кусках стали путем сжигания газов в камере. Хотя он был медленнее бессемеровского конвертера, новый метод давал больше стали и более высокого качества. Он был идеален для руд, содержащих примеси. Сименс быстро предложил его Альфреду как «нашему ведущему промышленнику», и вдруг изгнанник опять почувствовал привлекательность активной жизни. Воскреснув, он предупредил прокуру: «Мы должны внимательно следить за этим и ничего не пропускать сквозь пальцы, – если это хорошо, мы должны стать здесь первыми».