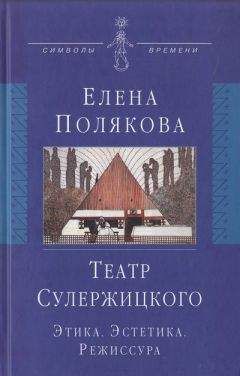Николай Телешов - Записки писателя
Домик стоял на самой границе города, у заставы, а дальше, за проезжей дорогой, лежала ровная, тусклая, бесконечная степь. Закат еще не померк, и над городом тянулись цветные угасающие полосы вечерней зари, а над степью уже всходила луна; она еще не светила, не золотила степи, а только глядела ласково и скромно, обещая тихую ясную ночь. Когда я вошел во двор, мое внимание привлек к себе старик, на вид лет семидесяти, возившийся и хлопотавший над небольшой тележкой; он осматривал ее, подбивал в ней какие-то гвозди, подтягивал веревки, но что-то у него не ладилось, и он вздыхал и качал головою.
— Чего ж на ночь глядя поедешь? — спрашивали его соседи, вышедшие поглядеть на чужие хлопоты.
— А что ж? — спокойно отвечал старик. — Вона месяц-батюшка вышел. Оно светленько с ним-то, а не жарко. А матушка-солнышко теперь тоже рано проглядывает. А как зачнет припекать, мы тут и в рощу, на отдых.
Он охотно рассказывал обо всем: куда идет, почему и давно ли из дома.
— Идем мы далече. На версты считать, не знаю, как и выговорить. А идем уже давно. Верст семьсот прошли да осталось верст тыщу. Ничего, милый, добредем. Семья наша немалая: я со старухой, да сын, да при нем жена, да детей четыре души, да еще пятый внук, парнишка, да еще две дочери. Эва народу-то! А каждый рот хлебушка просит, а его нет и нет. Четвертый год нет урожая, хоть что ты хочешь!
Мне довелось видеть отъезд этого старика — истинного «самохода», которому все равно: дома он нищий и в пути нищий, а если на новом месте будет хорошо и сытно — вот и дело сделано! А если нет, то уж хуже не будет. Таковы все его расчеты, которые приличнее назвать отчаянием, а не надеждой.
Тележку между тем снарядили. Это была двухколесная ребрастая «таратайка», вроде тех ручных тележек, которые встречаются в больших городах для сбора и вывоза костей, старого железа и всякого хлама. В оглобли вместо лошади впрягся сын старика, крепкий, дородный крестьянин лет сорока, а на пристяжке пошли сам старик и с другой стороны внук — мальчик лет тринадцати. Каждый из них надел себе на плечи веревку с широкой петлей, вроде бурлацких помочей, и по команде коренника все трое — сын, отец и дед — приналегли на веревки.
Колеса закружились потихоньку; повозка тронулась.
В тележке смирно сидело трое малюток, сидела древняя старуха, а среди них были всюду натыканы свертки пожитков и хлама. За повозкой шли молодые женщины и подростки, нагруженные узлами и котомками, опираясь на палки. Длинные слабые тени ложились от них на дорогу, и луна точно серебром начинала устилать им путь. Так переселялась за тысячи верст эта голодная семья, где старик, его сын и его внук образовали дружную тройку. Не верилось и не хотелось верить в возможность такой нужды, но факты говорили сами за себя, и очевидцу оставалось только повторить за поэтом: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и забитая, ты и всесильная, матушка Русь!»
Когда в 1897 году появились в печати мои первые рассказы из скитаний по Западной Сибири, я получал много писем от читателей по поводу виденного и пережитого. Между прочим, один небезызвестный в свое время литератор, Горленко, писал мне: «Правительство берет на себя великий нравственный грех, завлекая совершенно темных людей на весь ужас сибирских зим и безлюдья. И никто, ни правящие, ни правимые, не знают хорошенько, что их там ждет. Знают только, что там много свободных земель — и ничего больше. Недели две назад из нашей деревни ушла партия переселенцев на Амур, а на днях получено известие с дороги, что один из уехавших в пути от тоски повесился».
От царского правительства переселенец не получал в сущности никакой поддержки. Даже приехав на далекую чужбину, он получал только нетронутую целину, которую должен был впервые «поднимать» и выкорчевывать лес, для чего давались ему соха да деревянная борона и захудалая кляча. Теперь окружают переселенца заботой и вниманием, принимают на государственный счет перевозку на новые места, в плановом порядке, дают семенную ссуду, долгосрочный кредит на покупку скота и льготные жилищные условия, а также оказывает ему помощь машинно-тракторная станция, поднимающая богатейшие целинные земли и корчующая лес.
Та старая жуть, какую испытал я при встречах с переселенцами, теперь совершенно изжита, и тени от нее не осталось. Окруженные заботами советской общественности, крестьяне не знают теперь бед, которыми была полна их жизнь и на ходу и в новых условиях в чужих краях.
«Встретили нас, как родных, — пишут из Сибири приехавшие туда теперешние переселенцы. — Разместили в новых домах, каждому новоселу выделили по корове, дали овец и гусей…»
О прежних страданиях, к счастью, нет и помина.
IVНаправляясь в Сибирь и переезжая через Уральский хребет, очаровательный по своей красоте, я решил остановиться на сутки в Тагиле, знаменитом демидовском гнезде, где в 1702 году была выплавлена первая российская медь, только что отысканная.
Что представляет собою в настоящее время это «гнездо», я не знаю. Могу только предположить, что теперь это нечто грандиозное и весьма ценное в государственном отношении, но и тогда — а это было полвека тому назад — оно не только не уступало любому уездному городу благодаря сорокатысячному населению, заводам и шахтам, школам и памятникам, но даже превосходило многие, хотя Тагил был не более как рабочее селение Демидовых, родоначальником которых был в петровские времена простой тульский кузнец Никита, а позднейшие потомки его стали Демидовыми и даже князьями Сан-Донато.
В течение дня я осмотрел завод с его достопримечательностями, памятниками и музеем. Между прочим, в этом музее, отражающем историю производства, находится огромный раскидной медный стол с тремя частями крышки. Интересен он тем, что отлит на здешнем заводе в 1715 году и имеет на средней крышке следующую надпись:
«Сия первая в России медь от искана всибире бывшим камисаром Никитою Демидовичем Демидовым по грамотам великого Государя Императора Петра Первого в 1702 и 1705 и 1709 годах, а из сей первовыплавленной меди зделан оной стол в 1715 году».
Оставалось мне только осмотреть шахты, где добывают руду, спуститься в глубокое подземелье почти на четверть километра вниз. Охотников на такие прогулки бывает обыкновенно не много. Но мне было любопытно побывать под землею. На горы я уже всходил, по морю плавал, на воздушном шаре летал — и, не долго думая, я отправился к заведующему медными рудниками, который и обещал мне наутро пропуск.
С рассветом я уже был на ногах. Раннее летнее утро стояло пасмурное, моросил мелкий дождичек, было свежо.
У подошвы Лысой горы на громадном пространстве раскинуты заводские постройки. Подойдя к ним раньше, чем было условлено, я с полчаса стоял и смотрел, как с разных концов собирались к шахтам рабочие. Все они были одеты в пеньковые куртки серо-желтого цвета, в такие же штаны, в высокие побуревшие сапоги и подпоясаны ремнями. Все были с бледными, изможденными лицами, без живых красок, и на фоне серого утра, в серых костюмах казались тоже как будто серыми. Не замечалось нигде ни свежего лица, ни богатырской груди, свойственной рабочему человеку.