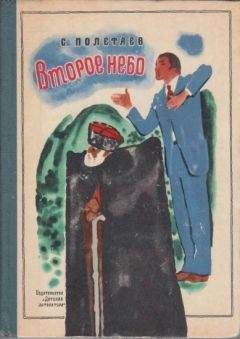София Старкина - Велимир Хлебников
А через месяц после встречи Нового года в «Собаке» Хлебников крупно поссорился и с «собачьими» завсегдатаями, и со многими своими друзьями. Дело опять чуть не дошло до дуэли. Случилось следующее. В конце января 1914 года в Россию по приглашению Н. Кульбина, Г. Тастевена и других приехал вождь итальянского футуризма Филиппо-Томмазо Маринетти. К тому времени у себя на родине Маринетти был достаточно известной фигурой. Он был знаменит своими футуристическими манифестами, своими романами, а кроме того, выставлял свою кандидатуру на выборах в парламент и получил там довольно много голосов. То, что итальянский футуризм возник раньше русского, было очевидно: уже в 1909 году в русской прессе появились отклики на футуристический манифест Маринетти, поэтому у Маринетти были некоторые основания относиться к поездке по России как к посещению своей провинции. «Апостол электрической религии, просветив свою родину и страны Западной Европы, является просвещать нас», — писали в газетах.
Специально к приезду Маринетти издали сборник манифестов итальянского футуризма в переводе В. Шершеневича. Далеко не все футуристы отнеслись к приезду «вождя» с должным пиететом. В Москве М. Ларионов заявил, что забросает этого ренегата тухлыми яйцами и обольет его кислым молоком. Подобным образом и Маяковский на одном из выступлений отрицал преемственность русского футуризма от итальянского. В это время Маяковский, Бурлюк и Каменский совершали турне по России, и им даже пришлось вернуться, чтобы принять участие в схватке с Маринетти. Как и предсказывал Ларионов, в Москве Маринетти приняли люди, ничего общего с футуризмом не имеющие. В Москве Маринетти прочел несколько лекций, причем футуристы на них демонстративно отсутствовали. Лекции Маринетти были совсем не похожи на скандальные выступления русских футуристов. Публика шумно выражала свой восторг. В свою очередь и Маринетти был очарован Россией. «Это страна футуризма, — с восторгом говорил он. — Здесь нет ужасного гнета прошлого, под которым задыхаются страны Европы».
После Москвы Маринетти отбыл в Петербург. Там накануне Кульбин созвал у себя дома собрание, с тем чтобы выработать единое отношение к гостю и не допустить, чтобы он, как в Москве, читал в чуждой ему аудитории. Все были согласны оказать гостю сердечный прием. Против выступили только Хлебников и Лившиц. Оба они полагали, что русский футуризм вовсе не является ответвлением западного, а совершенно независим от него, и что русские футуристы во многом опередили французов и итальянцев. Кульбин пытался уговорить их, напирал на то, что петербуржцы — не москвичи, что надо показать себя настоящими европейцами, но тщетно. Хлебников и Лившиц решили действовать.
Выступление гостя должно было состояться на следующий день в зале Калашниковой биржи. Хлебников и Лившиц составили воззвание, и Хлебников повез его в типографию. С Лившицем они договорились встретиться уже в зале, чтобы распространить свою листовку. Начала собираться публика. Лившиц стоял у дверей и караулил Хлебникова. Кульбин, который каким-то образом узнал, что они замыслили, тоже встал у дверей. Наконец, за несколько минут до начала лекции, в зал вбежал Хлебников. Он быстро сунул половину листовок Лившицу, и они принялись обходить ряды, вручая свои листовки. Лившиц увидел, что в печатном тексте Хлебников смягчил некоторые выражения. Листовка гласила:
«Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, они склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы.
Люди, не желающие хомута на шее, будут, как и в позорные дни Верхарна и Макса Линдера, спокойными созерцателями темного подвига.
Люди воли остались в стороне. Они помнят закон гостеприимства, но лук их натянут, а чело гневается. Чужеземец, помни страну, куда ты пришел!
Кружева холопства на баранах гостеприимства.
В. Хлебников. Б. Лившиц».
Не успел Лившиц раздать и десяти листовок, как к нему подскочил Кульбин, вырвал у него всю пачку и, яростно разрывая на части свою добычу, кинулся догонять Хлебникова. «В первый раз в жизни, — вспоминает Лившиц, — я видел Кульбина остервенелым: он не помнил себя и одним взором, казалось, был способен испепелить меня и Хлебникова. Что там произошло у них в другом конце зала, не знаю, но, когда Николай Иванович вернулся на эстраду, он производил впечатление человека, выпрыгнувшего из поезда на полном ходу». Хлебников разозлился не меньше, чем Кульбин, и вызвал того на дуэль, от которой Кульбин уклонился. Лекция началась, и Хлебников сразу ушел.
Взбешенный Хлебников написал открытое письмо (правда, не опубликовал его): «Бездарный болтун! В стороне скотский поступок врача Кульбина. Он, этот слабоумный безумец, этот верный Личарда, надеялся убежденной бранью искреннего дурака запачкать чье-то имя… Вы, приятель, опоздали приехать в Россию, вам нужно было приехать в 1814 году. Сто лет ошибки в рождении человека будущего. Бешеный бег жизни заключается не в том, чтобы французик из Бордо выскакивал каждое столетие. Итак, прибегая к языку, к которому прибег ваш раин Кульбин, вы подлец и негодяй. Так чествует новейшего французика из Бордо Будетлянин. До свидания, овощ!» Кончалось письмо так: «С членами „Гилеи“ я отныне не имею ничего общего». Хлебников демонстративно не присутствовал больше на лекциях Маринетти.
Лившиц оказался не таким принципиальным и, наоборот, поехал после лекции к Кульбину чествовать Маринетти, был на всех последующих встречах и имел с Маринетти продолжительные беседы. Хлебников же, обидевшись на своих друзей, принял приглашение Корнея Чуковского погостить у него на даче в Куоккале. Они встретились на посмертной выставке художника Ционглинского и оттуда отправились на поезд. По дороге Хлебников не произнес ни слова. Потом, взяв у Чуковского каталог выставки, написал на обороте обложки: «Заявляю, что я больше к так называемым футуристам не принадлежу». Вручив этот документ Чуковскому, он опять погрузился в молчание.[69]
Чуковский был одним из первых критиков, кто всерьез заговорил о футуризме. В 1913 году Чуковский прочел несколько лекций о футуризме в Москве, в Петербурге и в других городах. К Хлебникову он относился с большим почтением, очень любил его «смехачей» и даже говорил, что за одну строчку: «О, иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смехачей» поставил бы ее автору памятник и на памятнике начертал бы: «Виктору Хлебникову. Первому освободителю стиха».
Лекции Чуковского помогали публике лучше разобраться в футуризме и понять, «кто есть кто», отличить кубофутуристов от эгофутуристов. На одном из докладов Чуковский, встретившись в зале с Хлебниковым, обратился к нему с предложением издать книгу. Стоявший рядом М. Матюшин рассказывает: «…одинаково большого роста, они стояли близко друг к другу. Две головы — одна с вопросом, другая с нежеланием понимать и говорить. Чуковский повторил вопрос. Хлебников, не уклоняясь от его головы и смотря прямо ему в глаза, беззвучно шевелил губами, как бы шепча что-то в ответ. Это продолжалось минут пять, и я видел, как Чуковский, смущенный, уходил от вылупленных на него глаз Хлебникова, под непонятный шепот его рта. Никогда я не видел более странного объяснения»,[70] — заключает Матюшин.