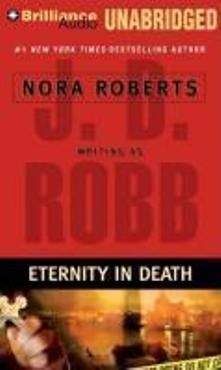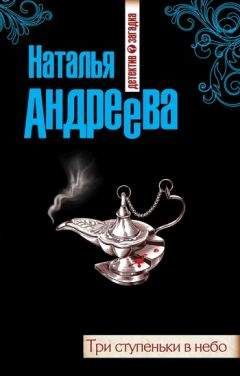Елена Боннэр - Постскриптум: Книга о горьковской ссылке
Мне нравится, как они живут. И спят спокойно, не замечают, что нарушили сон и вогнали в депрессию миллионы других, — особенно интересны в этой роли врачи; не знаю, что и кому они объяснили, но эпидемию если не создали, то поддержали — эпидемию бессонниц, неврозов, пограничных состояний. В Горьком женщина, работающая на почте, сказала мне (когда нам еще разрешали разговаривать с окружающими), что собирается делать ремонт в своей однокомнатной квартире и купить ковер. Спустя некоторое время она же: «Не знаю, стоит ли все это затевать, — говорят, скоро война…» Может, и здесь, в США, те, кого называют «простые люди» (чем они «простые», почему?), думают так же, как эта женщина, что не стоит покупать ковер, но интеллектуалы — явно нет. Этот феномен интересен, но не мне его разбирать.
Я попробую рассказать только об отношении к Андрею, заодно и ко мне, так как сейчас это возможно выразить только вкупе и через меня. Большинству мы, в общем-то, не нужны, но почти все проявляют формальную заинтересованность (ну, на обедах и приемах уж такую формальную, что, бывает, кому-то, кто изъясняет свое уважение, так и хочется задать вопрос: «А знаешь ли ты, кто такой Сахаров?»), почти все готовы что-то подписать (надо бы им больше предлагать на подпись), многие при этом очень мало знают. Это касается не только проблемы Сахарова. Характерно, что это знание им не кажется нужным. У политиков, мне показалось, иногда и по другим проблемам столь же мало серьезной осведомленности. Как будто что-то другое их ведет к действию, а не знание проблемы (будь то Никарагуа, энергетика, медицина, образование, права человека) — какой-то другой стимул. Может, это престиж: главное — понять, что престижно, а что нет. Немногие читали публикацию документов Андрея. В SOS[96] каждому присутствовавшему на встрече со мной вручали копию — они, видимо, знают своих. И именно там я встретила людей, серьезно занятых проблемами прав человека, а не разговорами о них. Но и в других местах есть такие, кто хочет и знать, и что-то делать, и с ними хочется говорить, потому что ощущаешь сопереживание, видишь живые глаза, а не ту отстраненность и пустоту, как было, когда Андрюша рассказывал о том, что с ним произошло в эти два года, своим советским коллегам, приезжавшим в ноябре 1984 и феврале 1985 года. Есть такие, что очень много говорят и про свои дела, и про нас, но…
Сейчас мне надо объяснить одно из самых трудных своих открытий. Я буду говорить о тех, кто знает имя Сахарова, знает даже и его дела, и взгляды, всегда все подписывает, иногда выступает первым, призывает других, говорит о Сахарове с советскими администраторами (научными или государственными — все равно). Этих людей я условно делю на две категории — для одних Андрей живой, и все, что с ним связано, у них болит, как свое; для других — символ, игра, политика, даже собственный успех, т. е. мертвое понятие, боюсь сказать — мертвый человек. Я поняла это, когда меня пригласил один из больших чиновников.
Вы не знаете, наверно, что у Белого дома есть не парадная сторона — по-русски говорят «задворки». Я знаю. Случайно.
Проход шириной со среднюю улицу от административного здания. В него мы вошли через аэродромного типа «пропускалку» и с выписанными заранее пропусками. За «пропу скалкой» нас встретили мои старые знакомые — американские дипломаты, отработавшие свой срок в Москве (вот уж правда — «у каждого свой срок»; я бы добавила «и в своем месте»). Может, они теперь заняты тем, что называется «формировать политику». Нет! Нчегошеньки они не формируют — выражение их лиц напоминает мне давнюю историю. Я ее расскажу.
Когда в 1981 году Алешка решил вступать с Лизой в заочный брак,[97] нам надо было заверить подпись Лизы на документе, гласящем, что она доверяет Эду Клайну[98] представлять и заменять ее во время церемонии бракосочетания. Мы обратились к помощи американского консульства в Москве, поскольку априори было ясно, что ни один советский нотариус такой документ не заверит. Два милых молодых сотрудника консульства — мы с ними потом подружились — сказали нам: «Да, конечно, мы посоветуемся с нашим адвокатом». Адвокат, постарше их, но тоже молодой (американцы не боятся молодых), сказал: «Конечно», — и все трое сказали: «Мы запросим госдепартамент. Думаем, что ответ будет быстро». Потом я ходила к ним в течение четырех месяцев каждую неделю, специально приезжая из Горького, как-то специально встала с постели — у меня был тяжелый грипп. Их лица при встрече со мной становились все напряженнее. Кажется, даже менялся постепенно сам тембр голоса, когда из раза в раз они мне говорили: «Знаете, там меняется администрация, ответ еще не пришел». И наконец — ответили: «Разрешили». Мы приехали на следующий день уже вместе с Лизой. Видели бы вы сияние на их лицах! Они перестали стесняться нас и, может, своих начальников, говорящих много о гуманитарных проблемах Хельсинкского акта (чем не проблема — дать жениться двум молодым людям?). Так Эд по доверенности от Лизы стал «наша невеста» (прозвище это дал Андрей, и оно укоренилось у нас в обиходе).
Сегодня сюда со мной пришли Алеша, Рема[99] и Эд — «наша невеста». Они не знают этого выражения полусоболезнования, полувиноватости, с которым нас встретили мои старые знакомцы. «Интересно, зачем нас — меня — сюда позвали? Я не просилась — „никого не трогаю, починяю примус"». Проход неширокий, кругом запаркованы машины. Это не то, что в Кремле — я, между прочим, там бывала, тоже не просилась, сам звал Анастас Иванович Микоян. У него тоже бывало виноватенькое выражение глаз: он живой, а папа мой… а ведь друзья, и всю-то молодость вместе и даже «на одном коне воевали».
Там, в Кремле, часовых много, на разных уровнях, на разных этажах стоят по нескольку, и все они в парадной форме и по струнке, а здесь, я бы сказала, по команде «вольно». А в Кремле двери так уж действительно двери — в два человеческих роста, дубовые — ну, так и несет дубом, хотя я лично в сортах строительно-мебельного дерева и не разбираюсь. А ширина, а тяжесть! И двигаются так беззвучно! По сравнению с кремлевскими здешняя дверь — совсем провинциалочка. Дверь эта действительно в белой стене — так что дом белый.
Но зачем сравнивать с Кремлем! Кремль — это так далеко. Можно найти и ближе, взять хоть Конгресс США: все просторно, всего много — холлов, окон, дверей, залов, коридоров, лестниц. В Конгрессе лестницы, как символ чего-то уводящего вширь и ввысь, — лестница, как в эйзенштейновском «Потемкине». А здесь за дверью лестничка узенькая, как в светелку, а за ней комнатки небольшие, потолочки невысокие. С этого входа Белый дом звучит камерно.