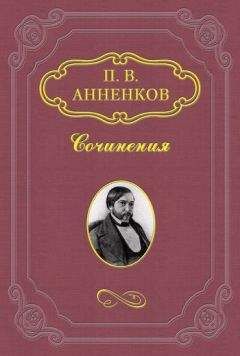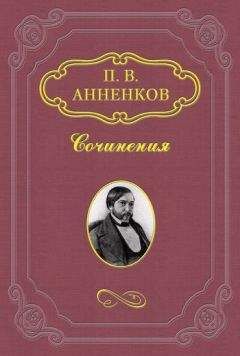Павел Анненков - Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта
Три поэта составляли для него плеяду, поставленную почти вне всякой возможности суда, а еще менее, какого-то осуждения: Дельвиг, Баратынский и Языков. На Баратынского Пушкин излил, можно сказать, всю нежность сердца, как на брата своего по музе. Почти нельзя было сделать при нем ни малейшего замечания о стихах Баратынского, и авторы критик самых снисходительных на певца Эды принуждены были оправдываться пред Пушкиным и словесно, и письменно. Еще из Одессы в 1824 г. (от 12 января) писал он по прочтении элегии Баратынского «Признание»: «Баратынский — прелесть и чудо. «Признание» — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий, хотя бы наборщик клялся поступать со мною милостивее». В самую эпоху, где мы находимся, он уведомлял Дельвига о том, что остался совершенно одиноким в деревне, и добавлял: «Праск(овья) Алек(сандровна) уехала в Тверь. Сейчас пишу к ней и отсылаю «Эду». Что за прелесть «Эда»! Оригинальности рассказа наши критики не поймут, но какое разнообразие!.. Гусар, Эда и сам поэт — всякой говорит по-своему. А описания финляндской природы! А утро после ночи! А сцена с отцом! Чудо! Видел я и Слепушкина. Неужто никто ему не поправил «Святки», «Масленицу» и «Избу»? У него истинный, свой талант; пожалуйста, пошлите ему от меня экземпляр «Руслана» и моих стихотворений, с тем, чтоб он мне не подражал, а продолжал идти своей дорогой. Жду ответа». С годами наслаждение Баратынским только росло в Пушкине, но имя Слепушкина, поставленное вслед за именем любимого им поэта и сопровождаемое таким добродушным изъявлением удивления, опять возвращает нас к его готовности на поддержание всякого усилия. Нигде не выразилось это качество благородного характера с такой теплотой, с таким жаром, как при встрече первых произведений Н. В. Гоголя. В одном старом журнале, в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду»» (1831, № 79), сохранилось письмо Пушкина к издателям его тотчас по выходе «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Приводим его:
«Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов.
Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и проч. Пора, пора нам осмеять les précieuses ridicules[108] нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского»[109].
Под действием этого снисходительного взгляда на людей и внешние формы жизни должны были приобресть и особенное достоинство, и особенную прелесть. В обхождении Пушкина была какая-то удивительная простота, выпрямлявшая человека и с первого раза установлявшая самые благородные отношения между собеседниками. Поэт Кольцов, введенный в общество петербургских литераторов, был поражен дружелюбной откровенностью приема, сделанного ему Пушкиным. С робостью явился он к знаменитому поэту и не встретил ни тени величавого благоволения, ни тени покровительственного тона, которые тут еще могли бы иметь причину и достаточный повод. Пушкин крепко сжал руку Кольцова в своей руке и заговорил с ним, как с давним знакомым, как с равным себе… Черта эта проявляется, так сказать, наглядным образом в замечательном письме Пушкина к Шишкову 2-му, письме, которым он связывает удивительно просто и благородно дружеские сношения, прерванные временем, и которое поэтому и прилагаем здесь:
«С ума ты сошел, милый Шишков; ты мне писал несколько месяцев тому назад: Милостивый государь, лестное ваше знакомство, честь имею, покорнейший слуга, так что я не узнал моего царскосельского товарища. Если заблагорассудишь писать ко мне впредь, прошу тебя быть со мною на старой ноге; не то мне будет грустно. До сих пор жалею, душа моя, что мы не столкнулись на Кавказе; могли бы и стариной тряхнуть, и поповесничать, и в язычки постучать. Впрочем, судьба наша, кажется, одинакова и родились мы, видно, под одним созвездием… Что стихи? Куда зарыл ты свой золотой талант? Под снегами Эльбруса, под тифлисскими виноградниками? Если у тебя есть что-нибудь, пришли мне; право, сердцу хочется. Обнимаю тебя. Письмо мое бестолково, да некогда мне быть толковее».
Сам Пушкин верил в простодушие гениев и часто объяснял этим самые хитрые изречения, приписываемые им. Он мог дойти до этого верования и по личному опыту.
Наконец, в Михайловском были написаны Пушкиным шесть глав «Онегина» и «Граф Нулин». О лирических его произведениях и вообще так называемых мелких стихотворениях не упоминаем: хронологический порядок, в котором помещены они в нашем издании, легко укажет читателю поэтическую деятельность двух годов его деревенской жизни. Несколько только слов о «Графе Нулине». Сказочка эта, возбудившая так много толков впоследствии, обязана происхождением забавной мысли, которую сам автор рассказывает на одном клочке бумажки, принадлежащем тоже к разрозненным и вполовину утерянным его запискам:
«В конце 1825 (года) находился я в деревне, — пишет Пушкин, — и, перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, подумал: что, если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить. Лукреция бы не зарезалась, Публикола не взбесился бы, — и мир и история мира были бы не те. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась; я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть». Так справедливо, что против шутки Пушкин не мог устоять[110].
Не все, однако ж, чем ознаменовалось в поэтическом отношении деревенское пребывание Пушкина, отдано было им публике. Так, между прочим, позабыл он в тетрадях своих перевод XXIII песни Ариостова «Орландо». Он передал двенадцать октав песни, начиная с половины сотой до 112-й включительно, именно то место, которое в программе ее обозначается словами Principio della pazzia de Orlando (начало сумасшествия Орландо). Перевод сделан весьма небрежно; видно, что для Пушкина это было скорее упражнением в итальянском языке, чем настоящим творчеством: так, 101-я октава им не доделана, а 110-я сокращена в 4 стиха, впрочем, вполне сохраняющие содержание подлинника. Любопытно, что один стих Ариосто в 103-й октаве затруднил Пушкина, который после двух приемов и оставил его не побежденным. Стих этот у Ариоста читается: