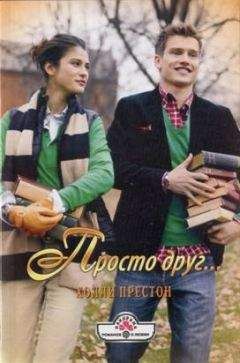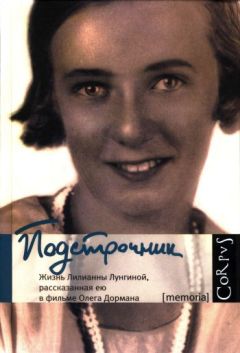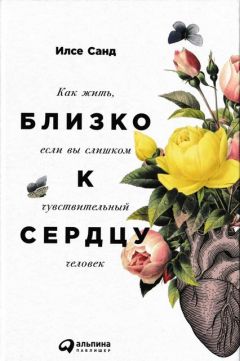Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
Не знаю, у кого более русская музыка, чем у него. Ни у кого. Ни у кого. Никакой Чайковский со своей «Во поле березонька стояла» не идет с ним в сравнение. Стравинский не только великий композитор: великий патриот.
37
В Нью-Йорке Пятигорский давал концерт с Яшей Хейфецом — они должны были играть двойной Брамса для скрипки и виолончели с оркестром. Пятигорский говорит: приходите на репетицию. Я пришел и поднялся в артистическую знакомиться. Хейфец стоит, чистит смычок от канифоли, а Пятигорский что-то ему на ухо нашептывает. Вхожу, Пятигорский показывает на меня, Хейфец опускает скрипку в футляр, подходит и говорит по-русски:
«Скажите, пожалуйста, это правда, что вы ученик Левушки Цейтлина?» — «Да, — говорю, — правда». Он кладет руки мне на плечи, не обнимает, просто кладет, и глаза его становятся влажными. Цейтлин был в юности его самый лучший друг. Он говорит, уже по-английски: My dear, what can I do for you? (что я могу для вас сделать, мой дорогой?). Хейфец мне говорит! Понимаете ли, что это такое? Я мог что угодно попросить тогда, в такую минуту. Чтобы он сыграл со мной…
Я попросил разрешения его скрипку подержать. Он подошел к футляру, взял скрипку, протянул: «Пожалуйста». И я был совершенно поражен тем, что все струны на скрипке жильные. Даже без обмотки, натуральные жильные струны. Тогда уже никто так не играл, у всех были металлические. Живая струна — совсем другое звучание. Скажем, старинные итальянские скрипки, чем лучше качеством, тем больше реагируют на натяжение струн, особенно дужка так называемая, полураспорка между деками, — она не подвергается такому напряжению, если на подставке натянуты жильные, а не металлические струны. И когда Хейфец взял скрипку, натянул смычок и заиграл… Это было звучание не скрипки, не инструмента музыкального — было звучание вокальное, как будто великая певица стоит и поет. Я никогда до того не слышал игры Хейфеца. Потрясло меня — и потом на концерте всех наших музыкантов это поразило — вот что: мы ждали, что он будет изумлять виртуозностью. Ну как же — величайший скрипач. Но ничего этого не было. Хейфец, кроме двойного Брамса, играл концерт Конюса. Это, в общем, простое сочинение для отличников музыкальной школы. Он сыграл его так, что нам открылась красота этой музыки. Не виртуозность, а содержательность исполнения до глубины души взволновала нас.
38
Каждый развод, всякий развод — большая трагедия. Это всегда вызывает у меня ужасно большое сожаление — за всех людей, не только за себя. Мы прожили с Аней, в этой нашей коммуналке, десять лет. Она ездила в съемочные экспедиции, я на гастроли… Что говорить о том, как было больно, когда мы развелись. Аня встретила другого человека, кинорежиссера, полюбила его. Вовке было восемь лет. Его отдали в интернат, на пятидневку. Когда я забирал его оттуда, он говорил: «Папа, забери меня отсюда совсем, меня бьют здесь, тут такие сволочные мальчишки!» У меня разрывалось сердце, но я думал: надо немножко подождать, он, может, приладится, научится постоять за себя.
Когда мы прилетели из Америки, наш «сопровождающий» предложил меня подвезти — его встречала служебная «Волга» с шофером. Я говорю: «Хочу заехать взять сынишку из школы-интерната». — «Ну садитесь, заедем». Я назвал шоферу адрес, это в районе «Сокола», там много маленьких улиц. Подъезжаем к школе, и мой сопровождающий говорит: «О, так это же наша епархия». И тут я по-новому оценил Вовкины рассказы о том, что с первого класса там учат немецкий, а с четвертого запрещено разговаривать по-русски, только по-немецки, и все предметы надо учить по-немецки, и экзамены сдавать, и с учителями разговаривать только по-немецки.
Я забрал его, и больше Володя в эту школу не ходил. Им занялись мой папа и Анина мама, и я всегда буду им это помнить с великой благодарностью.
39
Однажды Шостакович сказал мне: вопрос заключается в том, пойти ли на компромисс, как пошел Галилей, или на костер, как Джордано Бруно.
Можно было какое-то время делать вид, что вопрос так не стоит или что ты выше этого. Но недолго.
Мне стали предлагать подписать разные недостойные письма. Что я делать ни за что не хотел. Помню, как стоял перед неприятным искушением, если не ошибаюсь, на гастролях в Мексике. Требовали подписать письмо против Израиля. Я отказался. Начали давить, пристали с ножом к горлу, вызвали в наше посольство, и сам посол… Я сказал:
«Поймите, я это не могу сделать. Это войдет в противоречие с моим представлением о жизни, с моим представлением о совести. С моим искусством, в конце концов». Он говорит: «Надо быть патриотом». Я ответил: «Ну хорошо, ну, представьте себе, что я подпишу такое письмо. И вы думаете, после этого я смогу вернуться домой? Не представляйте себе этого, я не смогу вернуться». Тогда от меня отстали. Но категорически отстали, навсегда. Больше никогда не предлагали мне подписывать писем.
Зато однажды, в Москве, на репетицию пришли представители партийного комитета филармонии. Пришли меня поздравлять.
— С чем вы меня поздравляете?
— Ну как же, вас принимают!
— Куда меня принимают?
— В партию. Я говорю:
— Я такого заявления никогда еще не писал.
— Ну, напишите, не поздно. Это не поздно, мы все устроим. Я говорю:
— Знаете, этого шага я пока что остерегаюсь, потому что не готов к этому. Я не готов к этому весь, так сказать, — по своему образованию и по своему воспитанию. Я даже не был в комсомоле. У меня нет настоящего знания марксизма-ленинизма.
— Мы вам дадим педагогов.
— Нет, этому научить никто не может, если человек сам не постигнет, нет. Торговался-торговался, и как-то сошло. Как-то сошло. Спустили на тормозах.
Прекрасно я понимал, какие открываются возможности, если подпишу, если вступлю в партию. Мне не позволяли мои, как вам сказать, нравственные ощущения. Чувство, что это организация, которая может меня не исправить, а испортить. Я боялся этого, очень боялся.
У каждого человека свои обстоятельства, своя способность к сопротивлению. Бывало, более умные люди подписывали. Шостакович, например, решил подписывать все без разбора, в надежде обессмыслить этот поступок, сделать так, чтобы его подпись абсолютно ничего не стоила, не значила. Он подписывал сотни писем, сотни всяких характеристик, отзывов. Однажды, говорит, пришел к нему пианист и попросил написать записку, что Шостакович считает его лучшим исполнителем своих произведений. «Я, Рудольф Борисович, даже обрадовался — и подписал. Потому что кто же сочтет серьезной такую подпись?»