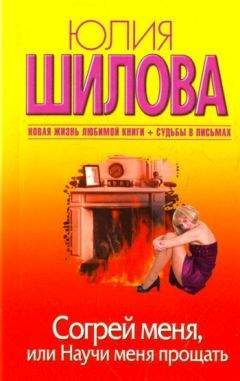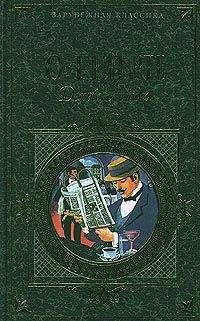Юрий Айзеншпис - От фарцовщика до продюсера. Деловые люди в СССР
Благодаря Олегу, моему местному авторитетному приятелю, я смог установить хорошие контакты с нашим бригадиром. Причем настолько хорошие и доверительные, что за пять месяцев на Красноярской зоне я ни разу не дотронулся до лопаты или кирки. Не работать на стройке могли либо «за авторитет», либо за деньги. Я, понятное дело, больше брал вторым. Стартовую авансовую сумму родители оперативно переслали, а дальше услуги бригадира оплачивались из «заработанных». Например:
При выполнении нормы плана бригадир тебе закрывает нарядов на 160 рублей. Если же ты условно «вкалываешь с перевыполнением», например на 200 рублей, то 80 идет зоне за «постой», а 120 на твою карточку, на лицевой счет. После налогов остается 100. Из них 50 — тебе, а 50 — бригадиру. Думаю, в подобном сговоре участвовало не более 10 процентов всех заключенных, ведь и строить объект тоже требовалось. Далеко не все умели найти «пути» к бугру, еще меньше могли грамотно реализовать схему перегона денег домой и обратно. Ну а некоторые работоманы просто вкалывали как слоны и домой уезжали богатыми людьми. Как раз перед моим приходом в зону оттуда освободился один такой работяга, за два года напахавший на 5000 рублей!
Это оказалось неожиданным открытием: подневольным трудом можно заработать относительно неплохие деньги. Не такие значительные, как на валютных операциях, но подчас побольше, чем в НИИ. При этом лишь максимум 15 рублей ежемесячно позволялось потратить в магазинчике-ларьке: базовая сумма в 9 рублей + 4 рубля производственных (если норму выработки выполняешь) + 2 поощрительных, если хорошо работал, не нарушал порядок. В общем, негусто, да и позволялось всего две продуктовых передачки по 5 кг в год. В тюрьме же — каждый месяц. Однако условия и возможности для качественного питания здесь оказались гораздо лучше. Стоило лишь приложить немного ума и фантазии, правильно учитывать местную специфику.
А специфика состояла в том, что, когда оцепление снимали, на территорию строящегося объекта мог зайти любой. И спрятать в одном из многочисленных укромных мест водку, деньги, еду — да что угодно! Конечно, требовалось иметь связь с местными. А еще требовалось иметь деньги, причем не на карточке, а живые. Отработанная финансовая схема была такова: с карточки деньги переводились в Москву родителям, затем шли обратным телеграфным переводом вольному жителю Красноярска, а потом уже переправлялись мне. Как правило, вольнонаемными, которые трудились рядом с нами. И хотя по всей стройке шныряло человек 50 надзорсостава, срочники и сверхсрочники, хотя вольным строго-настрого запрещался контакт с заключенными, засечь многочисленные нарушения не представлялось возможным. Да и зачем, если это всем выгодно?
Отоваривались деньги теми же вольнонаемными или в лагерных ларьках, где работали заключенные. При стандартных «безналичных» операциях они ничего не зарабатывали, а тут продавали товар из-под полы — скажем, чай не по государственной цене в 38 копеек, а по рублю — и неплохо на том зарабатывали. В общем, спекуляция похлеще, чем на воле, только цены выше за счет риска и безальтернативности. Чай в зоне вообще на вес золота, местная валюта. И сахар в цене. Ну и водка, конечно. В мелком бизнесе участвовали и контролеры, и надзиратели. Это было всегда и всегда будет. Таков человек, такова Россия.
В Красноярской зоне я неплохо устроился и в бараке, и на стройке. Моя кентовка жила в теплом и светлом углу, рядом с окном. Хозслужащие-шныри и просто шестерки таскали нам с кухни еду — иногда за деньги или за «я боюсь». На стройке жилось ничуть не хуже: я с «семьей» выбил себе так называемый балок — вагончик с печкой, лежанкой и укромными местами, где всегда хранились затаренные продукты и спиртное — водка и даже коньяк. Кое у кого во время набегов контролеров, когда балки взламывались, находили наркотики, но мы этой дурью и дрянью не баловались. Наш балок, кстати, вообще не трогали — столь сильная существовала поддержка с воли.
Вообще в местах заключения, так же как и на воле, все определяется твоим поведением, твоей сутью. К тебе присматриваются, тебя вычисляют. Кто ты — бомж и бродяга, бандит или солидный человек? Как ты себя поведешь в критической ситуации? Как делишься продуктами, как играешь в карты, как отдаешь долги? При этом тюрьма, как относительно мимолетный этап для большинства, не особо располагает к выстраиванию отношений, к дружбе… Даже если и возникнет, то проходит несколько месяцев и вас раскидывают по разным зонам. Вдобавок ухо постоянно надо держать востро: а может, это и не друг вовсе? А может, разговор по душам лишний год добавит?
В зоне же, где проводишь большую часть срока, дружба может стать крепче, основательнее. Возникают отношения, появляются действительно близкие люди, которые поддержат и заступятся. И кое-кто из них остается с тобой и на воле. Но разные интересы и социальный статус, занятость, географические границы — лично мне все это мешало сохранению общения.
А в целом же твое окружение в тюрьме и на зоне — безликая серая масса. Например, за восемь лет первого срока, если учесть, что списочный состав меняется в среднем раз в три года… Значит, прошло 7–8 тысяч человек. И иногда во вполне респектабельных компаниях ко мне подходит вполне солидный господин и говорит:
— Юр, а помнишь, мы вместе…
Нет, как правило, не помню…
Приезжали и родители, опять поохали, принесли денег и посоветовали беречь себя. Я прощался с ними и думал, что Москву увижу еще очень нескоро. И я ошибался. Как-то по радио объявили мою фамилию и приказали «явиться к зам. начальника колонии через 15 минут с вещами». Я явился: что изволите? Да ничего особенного, просто меня отправляли этапом обратно в Москву, одним из главных свидетелей по делу Жукова. На его суд. Но не только за этим. Параллельно против меня дали показания несколько валютных проституток, пойманных за мелкие грешки, и здесь тоже требовались очные ставки и прочая ерунда.
Сам судебный процесс я запомнил плохо, никакой особой интриги не присутствовало и в помине. Я вяло безучастно подтверждал ранее сказанное и признанное самим Борисом. Я в очередной раз дивился бессмысленности расходования государственных средств, ведь все мои признательные показания уже имелись. Морально я уже готовился отправиться в Красноярск по третьему кругу, но отправка задерживалась. Оказывается, все это время мои родители хлопотали о моем более близком к дому распределении, и это им удалось. Меня отправили в Тулу.
Бунтарская зона
Тульская зона неплохо благоустроена, самая ближняя к Москве, в чем-то даже образцовая. И показательная. Иностранцев по линии тюремных дел всегда возили именно туда — ровные асфальтовые дорожки, все чисто и аккуратно (конечно, за несколько дней до подобных визитов местный спецконтингент чуть ли языком не заставляли все вылизывать, даже траву красить). А недавно, слышал, сам Карпов там сеанс одновременной игры 12 зэкам давал. В общем, внешне все казалось весьма уютно — этакий пионерлагерь за решеткой. Но внешность обманчива. В отличие от молодой Красноярской зоны, еще не успевшей обзавестись историей, местное ИТУ существовало десятилетия, и кое-кто из заключенных старался сохранять классические воровские традиции. Это приводило к частым конфликтам, даже бунтам. Незадолго до моего приезда по зоне прошла очередная буча против нумерации каждого зека и его одежды личным номером. Вообще-то, до 80-х годов каждый из заключенных имел свой порядковый номер, который обязан был помнить в любое время суток и в любом состоянии. Эту система регистрации, возможно, переняли в немецких концентрационных лагерях. Когда зек «отыграл на рояле» в оперчасти (сдал отпечатки пальцев), ему присваивался номер, к примеру Г-357. Этот номер выводился мелом на темной дощечке, которую вешали на шею. В таком виде он и фотографировался для тюремно-лагерного архива. А дальше заключенному выдавались четыре белых полоски материи размером восемь на пятнадцать сантиметров, и эти тряпки он нашивал себе на места одежды, обозначенные администрацией. Любопытно, но единого всероссийского стандарта не существовало: номера могли крепиться в разных местах, но в большинстве случаев — на левой стороне груди, на спине, на шапке и ноге (иногда на рукаве). На ватниках на этих участках заблаговременно проводилась порча. В лагерных мастерских имелись портные, которые тем и занимались, что вырезали фабричную ткань в форме квадрата, обнажая ватную подкладку. Беглый зек не мог скрыть это клеймо и выдать себя за вольняшку. Бывало, что место под номер вытравливалось хлоркой. Служебная инструкция требовала окликать спецконтингент лишь по номерам, забывая фамилию, имя и отчество, стирая индивидуальность. При этом начальники отрядов часто сбивались, путались в трехзначных метках и порой переходили на фамилии. В помощь надзирателям на каждом спальном месте зека прибивалась табличка с номером и фамилией. «Вертухай» мог зайти в барак среди ночи и, обнаружив пустую койку («чифирит где-то, падла»), просто записать номер, а не пускаться в длительные расспросы. В конце 80-х годов с началом исправительно-трудовых реформ нумерация зеков отошла в прошлое. «№ Г215» стал «осужденным Петренко», а «гражданин начальник» мог называться «Николай Алесанычем».