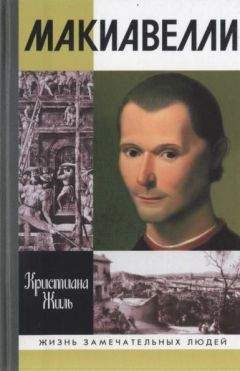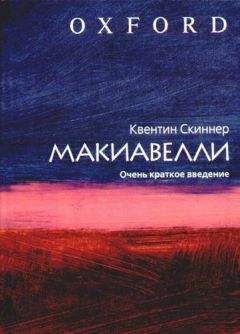Жан-Ив Борьо - Макиавелли
Поэзия. «Золотой осел»
Это небольшая неоконченная поэма, написанная, как и шедевр Данте, терцинами, но по античному образцу. Впрочем, от образца – романа «Метаморфозы, или Золотой осел» (Asinus aureus; Metamorphoseon, libri XI) римского поэта II в. Апулея – Макиавелли сохранил только фабулу: превращение главного героя в осла. К сожалению, в дошедших до нас фрагментах поэмы о том, что стало с героем после этой метаморфозы, ничего не говорится, хотя в начальных строках автор обещает читателю «обилье ругани и лая». Как и Апулей, Макиавелли вводит в повествование богов, вернее, богинь – только герою первого помогала Исида, а над героями второго куражится злая Цирцея: превратив людей в животных, она с помощью пастушек-дев управляет ими, несмотря на то что и в зверином обличье они сохраняют свои человеческие, как мы сказали бы сегодня, «психологические» черты. Здесь явно прочитывается едкая сатира на флорентийское общество. «Немало горя, муки и печали, / Ослом оборотясь, изведал я, / О чем и повествую»,[86] – сообщает нам Макиавелли, из чего мы можем сделать вывод, что рассказ будет автобиографическим. Усвоив горький урок «Государя», он больше не ждет от публики признательности: «И, написав свою поэму сам, / От ругани я не утрачу духа / И похвалам значенья не придам. / Уж если человеческое ухо / Не слышит голоса разумных нот, / Ослиное-то к ним тем паче глухо». Читателю предстоит услышать немало нелицеприятных истин: «И пусть осла хозяин палкой бьет, / Ослиное упрямство только гаже: / Мол, сделаю как раз наоборот. / О том поговорим еще, пока же / Скажу: явил в обличии осла / Премного я и норова и блажи». Из сохранившихся фрагментов поэмы нам известно лишь, что герой встречается с одной из пастушек, находящихся в услужении у Цирцеи, и та одаривает его неземными ласками, утешает и убеждает не спорить с судьбой: «Не перечь ей даром. / И обольщениям пустым не верь. / Она лютует в ослепленье яром, / Покамест не ушла ее пора. / Но будет все ж конец слезам и карам. / Настанет час, и сменятся ветра. / Ночь кончится, и день начнется снова, / И завтра будет лучше, чем вчера». Но героя одолевают мрачные предчувствия: «Я был во власти страха и печали / И, как слепой, смотрел в ночную мглу. / Слова и крики в горле застревали». Поутру гостеприимная пастушка удаляется к своему странному стаду, а герой предается размышлениям, и его одолевают удивительные видения: «Являются цари как привиденья. / И вижу, точно в дали голубой, / Историю их взлета и паденья. / И изумлен я общею судьбой, / Какая очень многими владела. / И долго рассуждаю сам с собой. / И понимаю ясно: то и дело / Приходит к своему пределу власть / Тогда, когда не ведает предела!» Мы снова слышим голос Макиавелли-политика: «Среди правителей лишь у того / Бывает совершенней путь и гладок, / Кто соблюдет закона торжество. / Без ссор, и передряг, и неполадок / Там воцарится благодать сама, / Где суть необходимость и порядок. / Но, коли нету здравого ума, / Не будут долговечными державы, / Где перемен сплошная кутерьма». Последнее замечание явно указывает на шаткость Флорентийской республики, в которой смена гонфалоньеров происходила каждые два месяца. Не отрицая пользы набожности, герой Макиавелли тем не менее понимает, что одного благочестия для крепости государства недостаточно: «Коль в гражданах благочестивы нравы, / В стране порядок, а в порядке том / Живут благополучнейше державы. / Но, коль иной безумец и ведом / Мечтой, что жив лишь благочестьем этим, / И не латает рушащийся дом – / Найдет конец в нем и себе, и детям!» Известный нам фрагмент заканчивается сатирическим описанием бестиария и беседой героя с «огромным хряком», который категорически отказывается снова превращаться в человека: «Ответь: у тигров ли, у поросят, / У пеликанов, у слонов, у блох ли – / Кто был себе подобными распят? / Нет, пусть кажусь я апатичней рохли. / Ты о моем возврате не радей. / Давненько слезы у меня просохли. / Не верь, когда какой-то лицедей / Кричит, что жизнь ему отрада, дескать. / Отраднее, чем жить среди людей, / Со свиньями в хлеву помои трескать». Мы не сомневаемся, что эта сатира пришлась по вкусу флорентийской молодежи, увлеченно спорившей о литературе и политике. В их числе были Луиджи Аламанни, Баттиста делла Палла и Дзаноби Буондельмонти, благодаря которому Макиавелли познакомился с Лудовико Ариосто.
17 декабря 1517 г. Макиавелли пишет письмо Аламанни, в котором в шутливой форме жалуется на великого поэта: «На днях прочел «Неистового Роланда» Ариосто. Поэма прекрасна, а в некоторых местах поистине великолепна; если у вас будет такая возможность, отрекомендуйте меня автору и скажите, что меня удручает всего одна вещь: перечисляя разных поэтов, он обошел меня вниманием и в своем «Роланде» сделал со мной то, чего я с ним в своем «Осле» не делал». Итак, мы видим, что Макиавелли-политик примерил на себя новую маску – маску поэта, которому позволяется многое из того, что не позволено другим. Как, впрочем, и драматургу…
Театр. «Мандрагора»
Мы никогда не поймем интереса Макиавелли к драматургии, если забудем о том двойственном чувстве, которое люди эпохи Возрождения испытывали к античным образцам. В нем сочетались стремление к имитации (imitatio) и к соревновательности (aemulatio), иначе говоря, с одной стороны, почтение, с другой – ревность (invidia). В основе этого сложного чувства лежало убеждение, что великие античные авторы уже разработали все законы всех родов литературы, включая драматургию и ее главный жанр – трагедию. Впрочем, существовало одно исключение из этого правила, и оно касалось жанра комедии. Вторая книга «Поэтики» Аристотеля, посвященная комедии, не сохранилась (о чем хорошо известно всем, кто читал «Имя розы»). И гуманисты Возрождения не преминули воспользоваться этим «пробелом», достаточно вспомнить великого архитектора Альберти, который, еще будучи студентом, в шутку сочинил псевдоантичную комедию-аллегорию «Филодокс» (Philodoxeos fabula) с обращением к зрителю и прологом. В 1500-х гг. в Тоскане царила настоящая мода на латинские комедии, в частности при дворе дома Эсте, чему немало способствовал гуманист Гуарино да Верона; особенно эта традиция укрепилась в правление герцога Эрколе I д’Эсте. Во Флоренции времен Лоренцо Великолепного школяры под руководством наставников играли пьесы Плавта и Теренция, а Полициано специально для постановки «Двух менехмов» написал пролог. Желающие могли прочитать сочинение Элия Доната «О комедии» (и еще одно, принадлежавшее перу менее известного латинского грамматика Эванфия), в котором приводились античные «рецепты» создания комедии. Что касается Макиавелли, то он, вероятно, осуществил переделку «Евнуха» и перевел «Девушку с Андроса» Теренция – к сожалению, мы не знаем, когда именно: то ли в 1517–1518-м, то ли двадцатью годами раньше. Одним словом, во Флоренции талант автора соотносили с его способностью вдохнуть новую жизнь в древний жанр, и Макиавелли взялся за эту задачу, тем более что республика не пожелала вознаградить его за иные, «серьезные» труды, о чем он и пишет в Прологе к своей первой пьесе «Мандрагора» (La mandragola):
Если такое содержание, по своей легкости, не достойно автора, который хочет казаться умным и солидным, извините его за то, что он пустыми вымыслами старается усладить свои печальные дни; он не знает, куда ему обратить свои взоры: ему запрещено показывать свои способности в других работах, он не имеет никакого вознаграждения за труды свои.[87]
Фабула «Мандрагоры», отчасти перекликающаяся с «Девушкой с Андроса» и явно несущая на себе отпечаток «Декамерона» Боккаччо (VII, 7; VIII, 6; III, 6), не была для любителей античного театра сюрпризом. Молодой человек по имени Калимакко влюблен в прекрасную донну Лукрецию, у которой, к несчастью, есть муж – старый мессер Нича. Калимакко сгорает от любви, но не видит способа добиться благосклонности красавицы. Ему на помощь приходит парасит Лигурио, который предлагает такой план: поскольку у супружеской четы нет детей, пусть Калимакко представится лекарем и убедит Ничу, что Лукреция, чтобы забеременеть, должна принять питье, приготовленное из мандрагоры. Правда, питье ядовито, поэтому тот, кто первым возляжет с Лукрецией после приема зелья, через восемь дней умрет. Значит, надо найти бедолагу, который согласится принести себя в жертву. Разумеется, это будет Калимакко, только на сей раз он предстанет в роли «молодого повесы». Для пущей убедительности к делу привлекают – не безвозмездно – монаха Тимотео и мать Лукреции Сострату. Все проходит как задумывалось; Лукреция, которой Калимакко в конце концов открывает правду, весьма довольна, а обманутый старик объявляет, что пригласит Калимакко в крестные будущему ребенку и позволит ему в любое время бывать у него в доме. Таким образом, мы видим, что все античные каноны соблюдены, по меньшей мере в том, что касается интриги: богатый и глупый старик остается в дураках, а молодые возлюбленные торжествуют, хотя хитроумный план принадлежал не им, а наперснику героя.