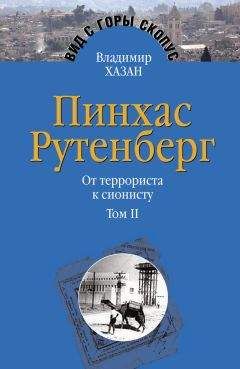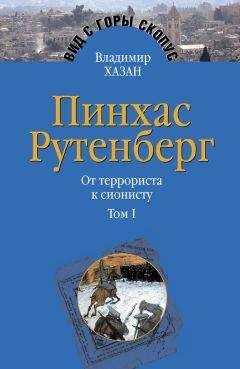Клод Роке - Брейгель, или Мастерская сновидений
Издали ты видишь деревню среди полей, на берегу моря: оно изображено в верхней части полотна. А когда приближаешься, понимаешь, что здесь люди все делают наоборот: кто-то бьется головой о стену, кто-то предлагает розы свинье.[49] Не я первым придумал этот фарс, эту деревню пословиц: эстампами на тему «Мир наизнанку» торгуют уже бог весть как давно. Но я с удовольствием писал эту картину. Другие рисуют Марса или Венеру в обрамлении цветочных гирлянд — я же предпочитаю рисовать серии шуточных картинок. И не перестаю удивляться тому, что наши поговорки, если представить их себе зрительно, превращаются во множество образов, которые в совокупности являют суммарную картину всех людских глупостей и пороков. Я как-то изобразил на столешнице, в тех местах, которые не видны под тарелками, дюжину пословиц: гости от души веселятся, когда обнаруживают, что судьба уготовила соседу. Кто жажды не знает, но всегда выпивает? Кто меняет свои суждения как рубашки — без тени сомнения? Кто так нетерпелив, что пожирает пшеницу, едва та успела заколоситься? Кто сидит меж двух стульев? Кому удается, из всех одному, добиться, чтоб ветер дул только в корму?… Но на этот раз я перемешал на одной картине добрую сотню присловий! Где это все происходит — на деревенской площади? Или на театральных подмостках? Как посмотреть: можно считать сцену зеркалом мира, а кому-то сам мир представляется сценой.
В детстве, когда приезжал балаган, я всегда успевал занять место в первом ряду. Удары молотка, которым забивали колышки, уже были частью праздника, а шелест разворачиваемого шатра доставлял мне такое же удовольствие, как шум ветра в парусах. Нас толкали в спину, но мы держались стойко и не сводили глаз с помоста. Помню, что тележник смеялся громче всех. Я видел, как гримасничают Жадность, Злоба, Гнев. Я удивлялся, почему люди не узнают себя в персонажах на сцене, почему не видят другого, повседневного театра, где каждый из нас шаг за шагом приближается к разверстой могиле. Но те, кто спит на ходу и кого подталкивают в спину, чтобы они шли, — как они могут увидеть, что мир есть сцена? Они не отличают отражения в зеркале от самого зеркала, тела — от ожидающей его вечной славы или вечной тьмы. Они не проводят границы между мыслями и мечтами, между мечтами и снами. Не улавливают разницы между своими мыслями и своим настроением, своим духом и своей меланхолией, своей душой и своей ролью на путях этой жизни. Спящие на ходу — как они могут знать? А я сам — если сумею проснуться, — на какой насест мне взобраться, чтобы ясно увидеть место, в котором я нахожусь, и определенный момент жизни этого мира: движение, мельтешение, толкотню; толпы тех, кто, подобно муравьям, запасает солому или муку; сцены любви и труда; отбытие и возвращение флотов и армий?… Где находится тот персонаж, тот уникальный «я сам», которым каждый является для себя; тот, кто носит мое имя; кого я знаю с самого детства лучше, чем рука знает обтягивающую ее перчатку; тот, кто наделен моими чертами, моим лицом?
Я вижу себя директором труппы странствующих актеров: я ставлю пьесы «Война сундуков и копилок», «Встреча Медвежонка и Валентина», «Свадьба Мопса и Нисы-Замарашки».[50] Я бы охотно подносил миру зерцало комедии. Холщовый шатер свернули — и можно трогаться дальше. Порой я подбрасываю словечко или шутку риторам из «Левкоя», но, по правде говоря, это не мое дело. Мой театр — лист бумаги, холст или такая вот деревянная доска. Мой главный персонаж — рисовальщик и художник.
Я рисовал сцену мира, пустую. Был ли я драматургом? Скорее географом. Я рисовал горы, долины, реки, всю необъятную ширь пространства. Для меня оно не было просто местом, где разворачивается наша история: я видел историю и драму самой земли. Я видел, что земля, как и мы, — пленница времени, которое ее изменяет. Ошибаются те, кто видит в моих пейзажах только декорации: речной поток, который кажется неподвижным, на самом деле течет и ни на миг не остается одним и тем же — даже на том участке, что доступен нашему зрению, он одновременно и сын и отец самого себя. Облака то принимают четкие очертания, то вновь расплываются, растворяются — так же, как наши мысли. Вся эта смятая материя гор с бессчетными складками — она тоже подчиняется времени! Географ, писец, архивист земли, я протоколирую ее метаморфозы; но меня сменят другие, потому что я тоже уйду, перейду в какую-то иную форму бытия; я, собственно, ухожу уже сейчас, когда сижу под деревом на камне и смотрю на поблескивающую вдали горную речку, которая кажется неподвижной дорогой.
Только что лист бумаги был совсем чистым — был просто белой заснеженной пустошью, — и вот уже перо или карандаш превращают его в неподвижное зеркало движущегося мира. Кто обязал меня вести хронику этих пейзажей? Медленно-медленно, словно далекое стадо или тень облака на склоне холма, лес наступает или отступает, меняется; занятый им участок сжимается или расширяется. Так капля воды или чернил, упав на бумагу, мгновение как бы колеблется, подрагивает, прежде чем остановится и примет какую-то форму. Так собака на охапке соломы крутится, пробуя улечься поудобнее, прежде чем заснет. Этот камень, на котором я сижу, по мере движения солнца меняет свой цвет с розоватого на серый, а пятна мха на нем с каждым новым дождем делаются все больше. Я рисую и прислушиваюсь к шуму мира, который, подобно реке, безостановочно течет мимо. Я вижу, как сливаются воедино струи ветра, мои волосы, листья. Я смотрю, как стремит свои волны вдаль, прочь от этого места, текущее время года. Устроившись под навесом ветвей, я внимательно наблюдаю и зарисовываю окружающий пейзаж. Я рисую себя, прислонившегося к дереву с треснувшим стволом. Моя рука, как и этот ствол, стареет — в тот самый миг, когда рисует взлетающего птенца среди колеблемой ветром травы.
Еще я рисую горы, похожие на колизеи, и над ними — стаи кричащих ворон. Ливни разрушают эти горы, стачивают склоны. Сколько мини-потопов было со дня сотворения мира? А сколько уже несется сюда на крыльях времени? Сколько Атлантид спит под нашими ногами, под нашими веслами? Для муравьев, живущих среди древесных корней, мельчайший дождик и даже вода, которую я выплескиваю из бокала, — уже потоп. А что есть потоп с точки зрения звезд? Я рисовал озноб мира, его медленные содрогания. «Зрел я: что было землей крепчайшею некогда, стало / Морем, — и зрел я из вод океана возникшие земли. / От берегов далеко залегают ракушки морские, / И на верхушке горы обнаружен был якорь древнейший; / <…> / Говорят, и Занклея[51] смыкалась / Прежде с Италией, но уничтожило море их слитность / И, оттолкнув, отвело часть суши в открытое море. / Ежели Буру искать и Гелику, ахейские грады, — / Их ты найдешь под водой; моряки и сегодня покажут / Мертвые те города с погруженными в воду стенами»,[52] — так говорит Овидий.