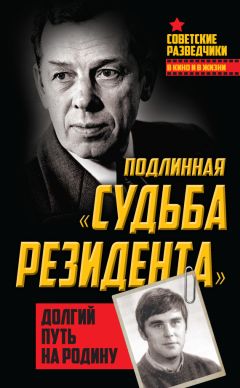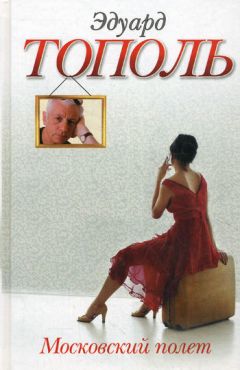Леопольд Инфельд - Эварист Галуа (Избранник богов)
— Опасный человек! — шепнул Эваристу Дюшатле. — Знает, как завоевать популярность. Бежим отсюда, пока он не схватил нас за руки.
Они пошли к Ратуше, к людям, готовым кричать «ура» Лафайету; к людям, которые, как думал Галуа, никогда не стали бы кричать «ура» герцогу Орлеанскому.
На каменной тумбе, обращаясь к собравшимся вокруг, стоял какой-то юноша. Галуа поразила не столько речь, сколько внешность оратора. Его платье будто вышло из рук портного всего час тому назад. Белый жилет с серебряными пуговицами, светло-серый сюртук, великолепно облегающий талию, высокая узкополая шляпа серебряного шелка. Он выглядел чуть ли не щеголем; казалось, ему не место среди людей в грязных рубахах и бесформенных шапках. Если бы не две большие трехцветные кокарды — одна на шляпе, другая в петлице, — его бы освистали. Но, видя кокарды, люди с гордостью слушали хорошо одетого молодого человека.
В жаркий июльский день под ярким полуденным солнцем говорить было нелегко. Однако оратор казался менее разгоряченным, чем любой из тех, кто его слушал. Ни капли пота не выступило на высоком лбу; взгляд оставался пронизывающим, как острие ножа. Красивое лицо его было мужественным, холодным. Держа в руке маленькую пулю, он время от времени подбрасывал ее в воздух и ловил точно в том же месте, откуда бросал.
— Кто это? — спросил Галуа.
— Пеше д’Эрбинвиль. Член общества. В отличие от большинства других богат и родом из аристократов. Я уверен, что он гордится этим.
Галуа взглянул на это олицетворение выдержки и хладнокровия. Речь его была, пожалуй, слишком уж безупречной. Выделяя какое-нибудь слово, он слегка кривил нижнюю губу, и лицо его становилось деланным и жестоким.
При взгляде на это ледяное лицо, при звуке этого сдержанного голоса охватывал холодок, хотя жара стояла невыносимая.
— Кто человек, которого нам желают навязать в короли? Я расскажу вам, друзья мои. Как историк, я изучал жизнь и Филиппа Эгалите и его сына. Герцог Орлеанский — незаконнорожденный потомок Людовика Четырнадцатого. Но он Бурбон и должен разделить судьбу Бурбонов. Теперь мосье Тьер и его приспешники кричат вам, что он сын Филиппа Эгалите, голосовавшего за смертную казнь Людовика Шестнадцатого. Эти же господа твердят, что при Жемаппе герцог сражался за республику. Прижмите к стенке любого орлеаниста, и он заладит, как попугай: «Жемапп, Жемапп».
Дважды насмешливо пропищав это слово, он подбросил высоко в воздух свою пульку и ловко поймал ее. В отличие от других Эваристу это не показалось забавным.
— Друзья мои, ни один орлеанист вам не скажет того, что знаю я и что следует знать вам.
Тридцать один год тому назад, в тысяча семьсот девяносто девятом году, молодой герцог Орлеанский отправился в Митто, где в то время жил немощный Людовик. Там наш жемаппский герой бросился к ногам жирного Людовика и, горько рыдая, вскричал: «О государь, простите грехи моего отца и мои собственные прегрешения. Простите мне, что я сражался при Жемаппе».
Он смешно изобразил плачущего герцога, но Эварист все-таки не улыбнулся.
— И человек, целовавший дряхлые ноги короля Бурбона, теперь сам метит в короли Франции. Нечего сказать, Жемапп! Только один человек в силах сорвать замыслы орлеанистов; этот человек — генерал Лафайет.
— Ура генералу Лафайету!
— Мне известно из самых верных источников, что герцог решил склонить генерала на свою сторону, почтив сегодня Ратушу своим посещением.
— Нечего ему делать в Ратуше!
— Не подпускайте его сюда!
С криком подбежал мальчишка:
— Идут, идут!
Дюшатле повернулся к Пеше д’Эрбинвилю, сошедшему с тумбы и остановившемуся прямо перед ним.
— Прекрасная речь, да боюсь, что сейчас от нее будет мало пользы.
— Боюсь, что так.
— Это вот Галуа из Подготовительной школы. Занимается математикой. Он с нами.
Обменявшись рукопожатием, Пеше обратился к Эваристу чуть покровительственным тоном:
— Студент из Подготовительной нам может пригодиться.
Он попробовал улыбнуться, но улыбка не получилась.
Шествие приближалось. Впереди ехал герцог Орлеанский в генеральской форме, с большой трехцветной кокардой на шляпе. Как зачарованный глядел он прямо перед собой, на ступени, ведущие в Ратушу. Банкир Лаффит сидел в портшезе, который несли савояры; он растянул себе сухожилие, и у него болела нога. За герцогом и Лаффитом следовали восемьдесят депутатов. Для тех, кому приходилось наблюдать на улицах Парижа великолепные выезды Карла X, это было жалкое зрелище.
Люди на площади не выказывали ни одобрения, ни вражды. Они молчали. Герцог медленно приближался к ступенькам. Спокойно, безразлично толпа раздавалась, уступая дорогу белому коню. Лицо герцога покрылось мертвенной бледностью. Доехав до Ратуши, он сошел с коня и твердыми шагами начал подниматься по ступеням. В этот момент вышел генерал Лафайет и остановился на верхней ступеньке лестницы. Герцог поднимался все выше, медленно взбираясь наверх, где стоял Лафайет. Он непременно поднимется, даже если для этого придется столкнуть старого генерала вниз, так, чтобы ему уж не подняться. Неужели один Лафайет этого не понимает?
Генерал встретил герцога с любезностью светского человека, умеющего держать себя со знатным гостем. Процессия скрылась в Ратуше.
Теперь взоры устремились к фасаду здания. Все ждали каких-то событий. Время, казалось, замедлило ход.
Дюшатле повернулся к Галуа:
— Как по-вашему сумеет генерал дать герцогу отпор?
— Нет.
Дюшатле повторил тот же самый вопрос д’Эрбинвилю.
— Не знаю. — Он взглянул на Эвариста. — Почему вы так уверены, что нет?
— Потому, что знаю историю.
— Ну да, — колко возразил Пеше. — Для математика вы кажетесь вполне приличным историком.
— Ваше замечание…
— Идут, — прервал Эвариста Дюшатле.
Лафайет вывел герцога Орлеанского на балкон
Ратуши. Оба молча глядели на безмолвную толпу. Жорж Лафайет, сын генерала, подал отцу свернутый трехцветный флаг. Старый генерал стал разворачивать ею. В ту же минуту, впервые за этот жаркий июльский день, мягко подул свежий ветерок, вдохнув жизнь в трехцветное знамя. Полотнище затрепетало, вырвалось из трясущихся рук генерала и покрыло лицо герцога. Толстые пальцы схватились за ткань. Лафайет поворачивал древко. Люди увидели, как растет трехцветное полотнище, которое крепко держат эти двое. Им не были видны ни дрожащие, высохшие руки старого генерала, ни пальцы герцога, жадно вцепившегося в знамя.
Ветер колыхнул полотнище в сторону, на толпу. Ледяное молчание вдруг нарушили громкие крики: