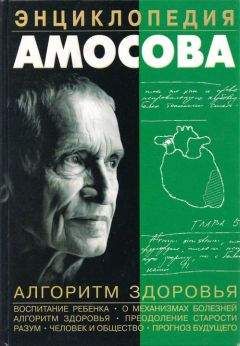Станислав Токарев - Хроника трагического перелета
А Сергей Исаевич в своем амплуа: сел и полетел.
Через час, на высоте 500 метров, машину бросало ветром вниз. Он решил идти на посадку, выключил мотор — это было вблизи деревни Вины, — но внезапно увидел под собой глубокий овраг, по которому струилась речка. Решил выпрыгнуть на лету. Упал в воду. Итог — сотрясение мозга, перелом ноги и ключицы…
Опять слезы и остроты. Стенания от боли и «П — почему упал? Скучно было лететь, я и заснул за штурвалом».
Итог? Нет, еще не итог.
Письмо С. И. Уточкина во все газеты: «Позвольте поместить нижеследующее. Находясь на излечении после падения во время перелета Санкт — Петербург — Москва и прочитав бесконечные нападки авиаторов, со своей стороны сообщаю, что организацию нашел великолепной. Гг. авиаторы сетовали, что некому завернуть пропеллер. Попросить солдат подержать машину и завернуть самому — это даже необходимая разминка. Все, что я прочел из нападков, не соответствует истине, свою неподготовленность гг. авиаторы свалили на комитет. Считаю долгом заявить, что, присутствуя на последнем заседании, я наткнулся на упорное желание гг. авиаторов на несколько дней отложить перелет. Комитет твердо отказал в этом, что и вызвало недовольство авиаторов. Жалею, что авиатор, достигший Москвы, вместо того, чтобы сказать комитету «спасибо» и Москве «здравствуй», сказал делу, которому служит: «издохни». Сергей Уточкин».
Почему же писал неправду (насколько явную, узнает позже) человек, говоривший о себе «я не лгу в жизни»?
Потому ли, что с начала и до конца противореча товарищам, желал быть наособицу — вне толпы, над нею? Вот если бы все сказали: «Надо лететь», Уточкин мог заявить: «Не надо».
Или потому, что если бы долетел, победил, то посчитал бы себя вправе обнародовать хаос организации? Подтверждать же в роли побежденного казалось ему оправданием, унижаться до которого он не хотел?
Собственно, сотрясение мозга довершило процесс необратимых изменений в рассудке.
Свидетельство его друга, писателя А. И. Куприна: «В последний раз я видел Уточкина в больнице «Всех скорбящих», куда отвез ему небольшую, собранную через газету «Речь», сумму. Физически он почти не переменился… но духовно он был уже почти конченый человек. Он в продолжение часа, не выпустив изо рта крепкой сигары, очень много говорил, не умолкая, перескакивая с предмета на предмет, и все время нервно раскачивался вместе со стулом. Но что — то потухло, омертвело в его взоре, прежде таком ясном».
Когда началась война, он обратился к великому князю Александру Михайловичу с письмом, в котором просил аудиенции «для изложения доктрин, которые можно приложить для использования небес в военных целях». Ответа не последовало. Отправился в Зимний, потребовал доложить царю: мол, известный авиатор желает высказать полезные отечеству идеи. Его выдворили.
Великий спортсмен — а таким, без сомненья, был Сергей Уточкин — вот еще чем велик: до последнего часа не верит, что час этот пробил.
Помню, к нам в редакцию приходил — и не раз — Николай Королев. Помню его и на ринге — мощного, глыбистого, не пляшущего, а крепко пошагивающего, низко держа кулаки, не защищая бритой головы, бить в которую, казалось, все равно что в булыжник. К нам же являлся старик, волоча полупарализованную ногу.
Что было ему надо? Чтобы поместили его, Королева, вызов всем боксерам страны на честный поединок.
Он тоже принадлежал к «партии голубого неба и чистого воздуха».
31 декабря 1915 года Сергей Уточкин умер от кровоизлияния в мозг.
Глава пятнадцатая
Не солнце — мацонщики, торговцы простоквашей, будили по утрам Тифлис, их призывное, сверлящее «Ма — цо — ни — и, а вот кому ма — цо — ни — и!»
Облака накрыли даже вершину горы Давида одеялом, но не белым, атласным, пуховым, какие шьют только в Тифлисе, и без них невозможно приданое порядочной невесты, а серым, ватным. Кура мчала, точно темно — гнедой вспененный конь, — в горах, видно, шли дожди.
Тем не менее весь Тифлис устремился на ипподром в Дидубе. На фаэтонах катили родовитые князья — Эристави, Дадиани, Сумбаташвили, сами Багратиони — Мухранские, чье родословное древо сплетается веточками с российским императорским. Богатые армянские купцы из Сололаки — Мелик — Азарянцы, Бебутовы и Манташезы — ехали также и на авто. Купцы помельче, с Авлабара, князья разорившиеся, вынужденные содержать многочисленные семейства казенной службой, шествовали по Головинскому проспекту мимо дворца наместника, сворачивали на Верийский спуск, делая вид, что гуляют, воздухом дышат, громко обмениваясь новостями с другими князьями, бедными, но гордыми. Не желая унизить себя до штурма трамвайных вагонов среди потного простонародья.
На трибунах для чистой публики объятия и приветствия — «Гамарджоба, дзмао!», — точно сто лет не виделись, не расстались вчера в духане или нынче поутру в хашной. К трибунам жмутся неизменно любопытные гимназисты и реалисты, среди которых всеобщее внимание привлекают ученик 6–го класса 5–й гимназии Наполеон Карагян и такового же класса, но коммерческого училища Амотох Хубларов, которые недавно вечером (газеты писали!) учинили шум и крик в буфете, над прибежавшим же их унять директором — даже и смех. Вах! Как ни в чем не бывало стоят, едят горячий люля — кебаб, завернутый в лаваш с зеленью.
Пестрят людскою массой склоны, балконы окрестных зданий, железнодорожная насыпь, какой — то смельчак ухитрился вскарабкаться на крышу Дидубийской церкви. Здесь рабочие арсенала, ютящиеся в слободе Нахаловка, ремесленники с Шайтан — базара, бритоголовые татары — банщики из бебутовских заведений, неизменные кинто в черных шароварах, подпоясанные красными платками: своими зурнами, дудуки, шарманками они едва ль не заглушают марши и вальсы, попеременно исполняемые оркестрами военной музыки 15–го гренадерского Тифлисского полка и 5–го Кубанского пластунского батальона. В толпе размахивают руками, обсуждая безобразный поступок какого — то — мамадзагло! — башибузука, который на товарной станции прорезал отверстие в упаковке одного из аппаратов «Блерио» и порвал провода мотора, он удостаивается самых сильных выражений — отец его собака!
По прибытии наместника Его Императорского Величества на Кавказе графа Воронцова — Дашкова, с супругой, статс — дамой Елисаветой Андреевной, полеты открываются.
Известный (уже известный!) авиатор Васильев превзошел себя. Прокатив перед трибуной аппарат с мотором «Гном», могущим нести его по воздушным волнам пять часов и даже более, он ловко вскочил в машину, точно в седло горячего коня — вай, джигит! — взвился, полетел в сторону Авчал, повернул на Ортачалы и удалился по направлению к Давидовой горе.