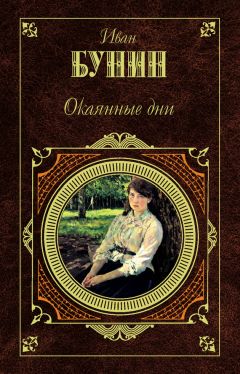Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма
30 янв. /12 февраля.
Прогулки с Ландау и его сестрой на Vinese, гнусная, узкая уличка, средневековая, вся из бардаков, где комнаты на ночь сдаются прямо с блядью. Палэ-Рояль (очень хорошо и пустынно), обед в ресторане Véfour, основанном в 1760 г., кафе «Ротонда» (стеклянная), где сиживал Тургенев. Вышли на Avenue de I’Opéra, большая луна за переулком в быстро бегущих зеленоватых, лиловатых облаках, как старинная картина. Я говорил: «К черту демократию!», глядя на эту луну. Ландау не понимал — при чем тут демократия?
31 янв. /13 февраля.
Завез в «Отель Континенталь» карточку и книгу «М. de S. Franc[isco]». Бенешу. Через два часа — его секретарь с карточкой, — ответный визит. Послал книгу (ту же) Пуанкарэ.
Прошлую ночь опять снился Юлий, даже не он, его, кажется, не было, а его пустая квартира, со связанными и уложенными газетами на столах. Вот уже без остроты вспоминаю о нем. Иногда опять мысль: «а он в Москве, где-то в могиле, сгнил уже!» — и уже не режет, а только тупо давит, только умственно ужасает.
1/14 февраля.
Все едут в Берлин, падают духом, сдаются, разлагаются. Большевики этого ждали… Изумительные люди! Буквально во всем ставка на человеческую низость! Неужели «новая прекрасная жизнь» вся будет заключаться только в подлости и утробе? Да, к этому идет. Истинно мы лишние.
5/18 февраля.
Дождь. Стараюсь работать. И в отчаянии — всё не то!
Опять Юлий во сне. Как он должен был страдать, чувствуя, что уже никогда не увидеться нам! Сколько мы пережили за эти четыре года — так и не расскажешь никогда друг другу пережитого!
Вдруг вспоминаю — пятый час, солнце, Арбат, толпа, идем к Юлию… Этому конец навеки!
Боже, какой океан горя низвергли большевики на всех нас! Это надо помнить до могилы.
Вечером у нас Злобин. Вышли пройтись, проводить его в 11 — в тихой темной улице старик, под шляпой повязанный платком, роется в мусорном ящике, что выставляют консьержки на ночь возле каждого дома, — что-то выбирает и ест. И м. б. — очень счастливый человек!
7/20 февраля.
Солнце, облака, весна, хотя еще прохладно. Вышел на балкон — 5-й час — в чистом, углубляющемся небе одно круглое белое облако висит. Вспомнил горы, Кавказ, небо синее, яркое и в нем такое же облако, только ярче, белее — за что лишил меня Бог молодости, того, теперь уже далекого времени, когда я ездил на юг, в Крым, молодой, беззаботный, люд[ей] — родины, близких? Юлий, наша поездка на Кавказ… Ах, как бесконечно больно и жаль тейого счастья!
11/24 февраля.
<…> Обедали у Цетлиных с Бакстом. Познакомился с Дионео <…> Понравился.
12/25 февраля.
<…> Все, что писал эти дни, — «Безымянные записки», — противно, чепуха.
16 ф. /1 марта.
Репетиция «Любовь книга золотая» Алеши Толстого в театре «Vieux Colombier». Пошлая вещичка, да и стыдно показывать французам нашу старину в таком (главное, неправильном) виде. Обедали у Ландау с Куприным. Куприн жалок и нищенской одеждой и общим падением.
14 марта.
Бальмонтам пишут из Москвы: «Очень трудно, одному на прокормление хлебом и картошкой надо пять[десят] мил[лионов], а служащие получают два с половиной мил[лиона]». <…>
18 марта.
<…> В 5 — лекция Жида о Дост[оевском]. <…> Жид не похож на художника, — пастор какой-то. Познакомились <…> Заснул Поздно, читал «Палату ном. 6». Волнение, — очень нравится, — мучительное желание и себе писать, и чувство, что ничего не могу, что я полный банкрот — и что вот-вот откроется эта тайна. И тоска, тоска, и мысль, что теперь каждый день дорог, что старость уже на пороге, — да, уже форм[енная] старость.
19 марта.
Погода опять чудесная, все то же за окном серое, чуть сиреневое, без единого облака небо (что-то вроде нашего севастопольского) и каменный красивый беспорядок домов.
Тоска до слез. Опять бесплодно посижу, почитаю «Посл. нов.», от вестей и подлости которых плакать хочется, — и опять погибший день. Все, что ни вспомню о парижской жизни, отравлено тайной, непонятной тоской.
6 апреля 22 г.
Вечер Куприна. Что-то нелепое, глубоко провинциальное, какой-то дивертисмент, в пользу застрявшего в Кременчуге старого актера. <…> Меня поразил хор, глаз отвык от России; еще раз с ужасом убедился, какая мы Азия, какие монголы! <…>
8 апреля.
<…> На ночь читал Белого «Петербург». Ничтожно, претенциозно и гадко.
9 апреля 22 г.
Ездил в Сен-Сир и в Версаль <…> мысль переселиться в В[ерсаль] на лето или на весь год. Поехал в окрестности, много прошел пешком. Прелестный день.
Вечером разговор с Карташевым. Он, как и я, думает, что дело сделано, что Россия будет в иностр[анной] кабале, которая, однако, уничтожит большевиков и которую потом придется свергать. В тысячный раз дивились, до чего ошалел и оподлел мир. <…>
Кондукторша на трамвае по пути в Версаль: довольно полна, несколько ленивые масляные глаза, два-три верхних зуба видны, чуть прикусывают нижнюю губу. От этого губы всегда влажны, кажутся особ. приятными.
10 апреля.
В посольстве доклад генерала Лохвицкого, приехавшего из Владивостока. Барская фигура Гирса.
Возвращался — пустые улицы и переулки после дождя блестят, текут, как реки, отражая длинные полосы (золотистые) от огней, среди которых иногда зеленые. Вдали что-то церковное — густо насыпанные белого блеска огни на Place Concorde. Огни в Сене — русск. национал. флаги.
11 апреля.
Все дождь, дождь, к вечеру теплее, мягче, слаже. Не могу слышать без волнения черных дроздов.
В 5 у Мережковских с Розенталем. Розенталь предложил нам помощь: на год мне, Мережковскому, Куприну и Бальмонту по 1000 фр. в месяц. <…>
19 апреля.
Все то же — безделье от беспокойства, необеспеченности, мука — куда ехать? Квартира зарезала!
23 апреля.
Ездили с Верой через Maison Lafitte в С. Жермен. Чудесная погода, зеленеющий лес.
Вечер Шлецера и Шестова. Шлецер, осыпая похвалами Гершензона и В. Иванова, излагал содержание их книжечки «Из двух углов». <…>
6 мая.
Вечером курьер из М[инистерства] Ин[остранных] Дел — орден и диплом Of[fice] de 1'Instr[uction] Pub[lique].
9 мая.
Вечером у Мережковских с Клодом Фаррером и его женой, Роджерс. Хвалили меня Фарреры ужасно. Сам особенно: вскочил, уступая мне свое кресло, усаживал, «cher maitre»… Большой, седой, волосы серебр., а местами золотые, голос довольно тонкий, живость, жестикуляция чрезмерная (говорят, кокаинист). <…>