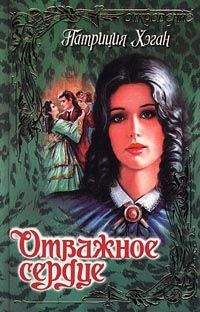Николай Скатов - Некрасов
В российском журнале, например, почти ничего нельзя было напечатать из французской литературы уже только потому, что это французское. «Современник» не смог опубликовать, как предполагалось, «Манон Леско» аббата Прево, а начав печатать новый роман Жорж Занд «Леоне Леони», должен был тут же и закончить, предложив подписчикам краткий пересказ дальнейшего содержания: легко представить, что испытывали увлеченные читатели, уподобившиеся гастрономам, которых угощают вместо еды ее запахами.
И если вопрос о вмешательстве России во внешние европейские революционные дела (в частности, венгерские) только ставился, то уж во внутренних делах она разбиралась быстро, решительно, жестко, а чуть позднее — и жестоко. Против печати работали силы большие, чем цензура. Пропущенный цензурой и напечатанный некрасовский «Иллюстрированный альманах», который должен был стать годовой премией подписчикам, запретили и уничтожили: никто не знал — за что. Вообще репрессии и преследования разного толка часто становились не наказанием, но предупреждением, а сами наказания реально не соотносились с самим «преступлением», как то было с кружком петрашевцев. По делу пошли сам Буташевич-Петрашевский, Спешнев, Плещеев, Достоевский и другие. Некоторые из них как бы по давнему декабристскому завету — аристократы. Позднее Некрасов писал об этом деле:
Молодежь оно сильно пугнуло,
Поседели иные с тех пор.
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.
Еще как пахнуло: приговор петрашевцам ведь тоже по декабрьской традиции был — смертная казнь, правда, отмененная в последний момент, уже после совершения всего предсмертного, вернее, предубийственного ритуала. Достаточно перечесть о том, что пережил один из приговоренных — Достоевский, — кажется, единственный в мире писатель, прошедший и через такой опыт, чтобы сразу понять, как террором пахнуло и почему поседели иные.
А ведь чуть ли не основным обвинением в адрес того же Достоевского было всего лишь чтение письма Белинского Гоголю. Нетрудно представить, что было бы с автором письма или, вернее, чего бы с ним только не было, не умри он в мае 1848 года, как тогда говорили, вовремя. Да и с адресатом письма, пожалуй, тоже. Во всяком случае, когда Гоголь умер в 1852 году, очевидно, тоже «вовремя», то уже только за некролог на его смерть в достаточно консервативном органе такого достаточно умеренного писателя, как Тургенев, отправили в ссылку: правда, всего лишь в родовое имение, но все же на полтора года. Цензоры на всякий случай запрещали потом все подряд, да и не могли не запрещать: при попущениях их самих по царскому распоряжению отправляли на гауптвахту. Когда отнюдь не революционный П. Анненков приехал в октябре 1848 года в Петербург из-за границы, то был поражен резко изменившейся обстановкой: «Возникает царство грабежа и благонамеренности в размерах еще небывалых... Не довольно было и молчания. На счету полиции были и все те, которые молчали, а не пользовались мутной водой, которые не вмешивались ни во что и смотрели со стороны на происходящее. Их подстерегали, на каждом шагу предчувствуя врагов. Жить стало крайне трудно. Некоторые из нервных господ, вроде В. П. Боткина, почти что тронулись ...трудно представить, как тогда жили люди. Люди жили словно притаившись».
«Журналистика, — свидетельствовал другой современник, — сделалась делом и опасным и в высшей степени затруднительным... надо было взвешивать каждое слово, говоря даже о травосеянии или коннозаводстве, потому что во всем предполагалась личность или тайная цель. Слово «прогресс» было строго запрещено, а «вольный дух» признан за преступление даже на кухне».
Может быть, впервые в такой степени политика проникала на кухню, в русский быт, а быт, «кухня» так политизировались; конечно, политика являлась не как более или менее гласная и нормальная политическая жизнь, а как подозрение в политической неблагонадежности, как гласное и негласное политическое доносительство.
В силу многих обстоятельств журнально-литературная и бытовая жизнь руководителей «Современника» и вообще его окружение сплетались в довольно тесный клубок и являли, естественно, лакомый кусок для всякого соглядатайства: и доброхотов, и, конечно, властей.
Полудомашнее, с привлечением, скажем, дворника осведомительство совмещалось с применением еще, конечно, довольно кустарных графологических опытов. Так, когда в качестве ответа на посвященный европейским событиям высочайший манифест появился анонимный «пашквиль», то непременный неутомимый эксперт Булгарин в особой для III отделения записке, скромно названной автором — «Догадки», сразу «догадался», что авторы «пашквиля» сидят в «Современнике». Сравнивали почерк в анонимках с почерками подозреваемых и названных в «Догадках» Некрасова и Буткова, а также с почерком не названного в «Догадках», но все равно подозреваемого, уже едва живого (умрет через два месяца) Белинского.
Некрасову и Белинскому были посланы из III отделения от имени самого (самим тогда там был Дубельт) записки, предполагавшие обязательный письменный ответ: сравнивали почерки подозреваемых авторов «Современника» и незнаемого автора «пашквиля». Правда, подозрения не подтвердились.
Видимо, надежнее казалось Булгарину традиционное «прослушивание» — тогда это еще называлось подслушиванием: «Бутков и Некрасов любят оба выпить, а Бутков таскается по трактирам... Некрасов ведет себя повыше и упивается шампанским и, упившись, врет. Нельзя ли найти человека, который бы напоил их и порасспросил».
Вообще, если вспомнить характеристику одного из деятелей тогдашнего круга «Современника», М. Лонгинова, уныние овладело всею пишущею братьей». С другой стороны, молодые авторы «Современника» и те, кто был пониже, и те, кто стоял «повыше», действительно упивались шампанским. И не только. И действительно таскались по трактирам. И не только. Достаточно почитать» например, характерный документ эпохи — так долго у нас не публиковавшийся и наконец напечатанный «Дневник» А. Дружинина, чтобы увидеть, как много уходило времени и сил на поездки к тем, кого он называет постоянным словом «донны».
В общем, в бытовом смысле это было, как сказал бы Щедрин, в своем роде «развеселое житье». И не только в бытовом: «Прибавьте к тому, что все мы были молоды или еще молоды, — вспоминает современник, — и вы не удивитесь, что мрачное настоящее не могло вытеснить из этих бесед шутки и веселья, которое и стало выражаться все-таки в литературной форме, именно стихотворной. Пародии, послания, поэмы и всевозможные литературные шалости составили, наконец, в нашем кругу целую рукописную литературу».