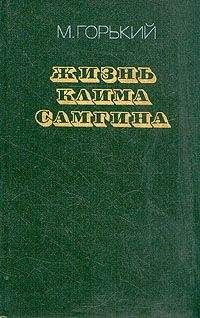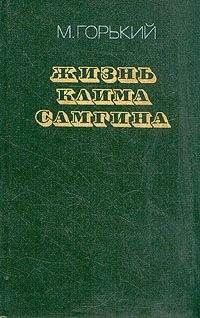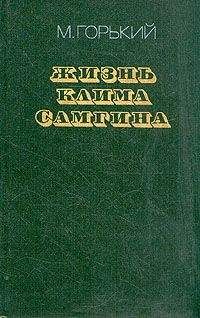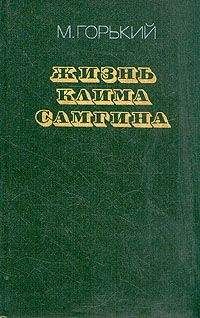Юрий Герт - Семейный архив
В течение 14 октября под Москвой сбито 8 немецких самолетов.
Приветствия английских и американских ученых
Доктор Джей С. Хаксли, член королевского общества:
«Люди науки особенно заинтересованы в том, чтобы дать отпор фашизму во всех его формах. При нацистском режиме наука неуклонно искажалась, пока полностью не перестала существовать как наука в подлинном смысле и стала слепым орудием в руках шайки, находящейся у власти...»
Профессор Чикагского университета Харпер:
«Освобождение мира от ига гитлеризма является общей задачей человечества. Есть еще такие американцы, которые не хотят этого признать. Но их число уменьшается, когда они видят, каковы цели нацистов, когда они убеждаются, насколько эффективным становится союз между СССР, Англией и Америкой.»
16 математиков американского университета в Беркли:
«Мы желаем выразить свою солидарность со всеми, кто борется против нацизма»
«Известия» от 15 октября
ЗАЩИТА СТОЛИЦЫ — ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ(Из резолюции коллектива завода им. Фрунзе)
В грозный час, когда остервенелый враг, захлебываясь в потоках крови своих солдат, отчаянно рвется к Москве, нам, москвичам, выпадает великая честь защищать нашу родную Москву... Мы полны уверенности, что население Москвы, подобно героическим защитникам Ленинграда, чья боевая слава гремит по всей стране, готово встретить врага грудью, будет драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови...
ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ
Ленинград. 20 октября. (По телеф. от соб. корр.)
«Советская страна, родина, наша столица — в опасности. Мобилизуем всю волю, все силы для разгрома врага! Ленинградцы, больше оружия и боеприпасов фронту!» Эти лозунги вывешены в цехе, который, как и весь завод, продолжает неутомимо работать, выпуская новые и новые боевые машины для фронта... В цехе Н-ского завода даже и в часы артиллерийского обстрела города никто не покидает своих рабочих мест.»
«Известия» от 21 октября
МОСКВА
Грозной и суровой стала Москва. Москва энергично готовится к обороне. По улицам столицы проходят воины Красной Армии, вооруженные батальоны трудящихся. Лица московских рабочих суровы и напряжены. Москвичи подтянуты по-военному... Враг рвется к Москве...
«Известия» от 23 октября
БОИ ПОД ОРЛОМ
Под Орлом идут ожесточенные бои с наступающими немецкими войсками. Наши части оказывают противнику упорное сопротивление. Сотни и тысячи трупов солдат и офицеров оставляют фашисты на полях сражений. Каждый день боев стоит им огромных потерь. После каждого сражения они недосчитываются многих танков, бронемашин, автомобилей, пушек. В отдельные дни немцы предпринимают по шестъ-семь атак. Наши танкисты и пехотинцы мужественно отражают противника...
«Известия» за 14 октября
9. Фронт
Дорогие мои!
Очень беспокоюсь, не имея от вас вестей. Пишу последнее время каждый день. Как здоровье Юрика, Сарры? Получили ли вы деньги по аттестату? Если денег не хватает, не останавливайтесь перед тем, чтобы часть моих вещей (часы, костюмы) продать и жить, не испытывая острой нужды. Все это дело наживное.
Я жив, здоров и очень бодр духом. У меня крепкие нервы и вера в свое счастье. Я был под бомбежкой, под прямым пулеметным обстрелом — и не терял самообладания. Только один раз показалось, что наступил конец. Всего 2 — 3 секунды длилось это, но равноценно это годам мирной обстановки. Вообще же страх оказался чужд мне.
Крепко вас всех целую, желаю здоровья
17/Х 41 Миша.
10....Было время, когда отец купил в Ялте огромную карту Европы и никак не решался повесить ее на стене, боясь рассердить маму, которая считала, что тогда весь вид у нашей квартиры будет нарушен, испортится весь интерьер. Теперь она лежала под этой картой, на кровати, укрытая двумя одеялами, в огромной, с высоченными потолками, выстывшей комнате, и на расстоянии вытянутой руки от нее был Париж, захваченный немцами, и чуть дальше — Лондон, где Черчилль выступает с речами, обещая вот-вот открыть второй фронт, и помеченная красной звездочкой Москва, на подступах к которой, как писали газеты, «идут ожесточенные бои»... А фашистами уже захвачена Одесса, взят Харьков...
Она лежала, свернувшись в маленький, затвердевший калачик, лицом к стене... Я уходил — она лежала, я возвращался — она лежала... И думала, думала... Казалось мне, думала о том, о чем все думали в те дни, и о чем-то еще... И вот это последнее, вот это о чем-то еще пугало меня в особенности. Я смотрел на ее затылок, на ее смятые, свалявшиеся в мочалку волосы, которые я так любил, они были раньше так воздушны, пушисты, словно наполнены ветром, — смотрел на нее и мне становилось страшно. Страшно за то, что чувствует она, оставаясь наедине с собой. Когда, случалось, я застигал ее врасплох, она не решалась повернуть ко мне залитое слезами лицо.
Я уходил, а она оставалась наедине со своими мыслями. Теми самыми, чувствовал я. И торопился домой, чтобы избавить ее от них.
— Ты бы сходил на улицу, поиграл, — говорила она, — подышал свежим воздухом...
Но как я мог куда-то идти, играть, дышать свежим воздухом... Который был так нужен ей... Который — так мне казалось — я отбираю от нее...
Иногда ей делалось лучше. Она оживала, на бледных щеках ее проступали красные пятна, которые можно было принять за румянец.
Погасшие зрачки вспыхивали горячим, сухим огнем.
— На фронте нужны врачи, — говорила она, присев и опершись о подушку спиной. — Ты останешься с бабушкой и дедушкой, а я... Меня возьмут. Возьмут... Пускай не на фронт, пускай хотя бы в госпиталь... Но я буду проситься. И если... Я скажу: там, на фронте, мой муж. И вы не имеете права!... Я так и скажу: вы не имеете права!..
Она говорила это так, будто ждала возражений и заранее знала их наперечет — все наши возражения, такие жалкие, такие не имевшие в ее глазах никакой цены, такие постыдные — когда там (жест истончавшей, с восковым отливом руки в сторону карты) люди тоже умирают, но с пользой!..
— Мама!.. Ты ничего не понимаешь, мама!.. — обрывала она бабушку. — Не понимаешь, что я больше так не могу! Не могу! Не могу!.. — И она откидывалась на подушку, захлебываясь кашлем, слезами, кровавой мокротой...
В такие минуты она не слушала бабушку, не слушала деда, который, пытаясь ее успокоить, пытаясь унять дрожь в своем осипшем внезапно голосе, бормотал что-то малосвязное, младенческое... Я был единственным, кого она слушала. Я сидел с нею рядом и гладил ее по плечу, худому, почти неощутимому сквозь ватное одеяло... И она мало-помалу стихала, успокаивалась. И говорила вдруг, скользнув по моей руке испуганным взглядом: