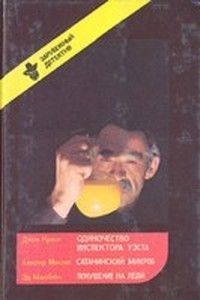Эммануил Казакевич - Из дневников и записных книжек
Здесь, в этой комнатке, под шум «фордов», сновавших по заводскому двору, Карпухин сделал Наде предложение. При этом его руки дрожали. Она засмеялась и сказала, что не может жить в таком аду и выйдет только за своего, деревенского или за городского, который ради нее согласится жить в деревне, потому что в городе она жить не станет.
— У вас уже есть кто-нибудь? — спросил он, помертвев.
— Нет, — сказала она полуправду, пожалев его: в действительности считалось, что она почти невеста Мити Харитонова, соседского сына; впрочем, Митя уже два года как находился в армии на Дальнем Востоке.
Карпухин просиял и начал убеждать ее в том, что и город неплох, если это настоящий город, а не новостройка, и что он может попроситься в Ленинград. Тифлис, Киев — а это все очень красивые города. И еще он что-то обещал ей и смотрел на нее при этом во все глаза. Она действительно была очень привлекательна. Высокая грудь, покатые круглые плечи, мощные и изящные икры — все это особенно волновало мужчин в сочетании с почти детским маленьким коротконосым румяным лицом, залитым светом больших серых глаз, ресницы вокруг которых были поистине удивительной длины и густоты, почти пушистые. Когда она прикрывала глаза, лицо ее в тени этих ресниц становилось томным и грешным, но когда глаза были раскрыты — оно было невинным свежим деревенским лицом, достойным, впрочем, кисти богомаза, пишущего лики ангелов для притвора какой-нибудь затерянной в глуши деревенской церковки.
Весь ее облик будоражил в Карпухине его чахлую чувственность аккуратиста и буквоеда. Ему, угловатому и застенчивому человеку, нужна была именно такая женщина, чтобы он мог ощутить подъем и совершить что-нибудь необыкновенное. Ради этой Нади он мог горы перевернуть. Он не верил, что может ей (и вообще кому-нибудь) понравиться, и не питал никаких надежд на то, что она примет его предложение. Он и сделал ей предложение только потому, что не мог иначе выразить всю меру восхищения ею. Но он был настойчив и упорен и в его узкой груди билось сердце, способное на великое постоянство.
Весь вечер после этого разговора она смеялась, вспоминая дрожь его рук, и искренне удивлялась тому, что не кто-нибудь, а настоящий инженер так дрожал и изменялся в лице перед ней, деревенской девчонкой. Это подняло ее цену в собственных глазах.
Может быть, поэтому она, приехав на станцию и не застав Макара с санями, особенно обиделась и рассердилась. Впрочем, позже, когда стало ясно, что сани не появятся вовсе, у нее внезапно защемило сердце.
Она посидела в помещении станции — большой бревенчатой комнате с грязным полом и наглухо закрытым окошечком кассы. Здесь никого не было, но в воздухе стоял заматерелый запах махорки и кислятины. В полутьме белели плакаты. Из-за стены доносился стук аппарата Морзе и ленивый разговор дежурного со смазчиком.
Как только начало светать, Надя пустилась домой пешком, не дожидаясь попутных саней, какие могли подойти, — так хотелось ей скорей попасть к своим. До деревни было двенадцать верст. Вначале Надя шла угрюмая и злая, тем более, что тащила на спине не очень легкий сундучок с гостинцами. Но по мере того, как становилось все светлее, досада ее понемногу проходила, кругом было так тихо и красиво, воздух был так чист и свеж, что Надя, сравнив эту благодать с сутолокой, гамом и пылью новостройки, начала улыбаться и петь. Издалека — вероятно из Мстеры — слышалось заливистое пение петухов. Огромный красный шар солнца поднялся над деревьями, покрыв на мгновенье снег и верхушки елей легчайшим малиновым покровом. Надя даже громко вскрикнула от восхищения.
Выйдя из лесу на Аракчеевский тракт — большак, идущий от Нижегородского глоссе ко Мстере, и повернув направо, она встретила первые сани и решила, что это едет опоздавший Макар. Однако это был не Макар, а Савелий Овчинников, молчаливый черный мужик, исполнявший обязанности почтальона. Он ехал на станцию за почтой, Наденка, впрочем, обрадовалась и Савелию, настолько все кругом казалось ей приятным и радостным. Она остановилась, чтобы перекинуться с ним словом. Савелий проследовал было мимо, но, вглядевшись в девушку и узнав ее, вдруг оглушительно крикнул: "Тпру, проклятая" и остановил лошадь.
— Здравствуй, дядя Савелий, — сказала Наденка приветливо.
— Здравствуй, — сказал Савелий. Он снял рукавицы и вынул из кармана кисет с махоркой, при этом глядя безотрывно на Надю.
— Как живете? — спросила Надя.
— Обнаковенно живем, — кратко ответил Савелий.
— А я у Варвары гостила.
— Знаем, — сказал Савелий.
— Кланялась она всем деревенским и тебе кланялась. Тоже и Калистрат Степанович приказали кланяться.
— Мг.
— Жалованье хорошее получает. Он ударник, портрет его висит на стройке. Про него в газете писали.
— Так, так… В газете… Мг… Да… — он скрутил цигарку, достал спички, закурил и не двигался с места. Надя спросила:
— Как там наши — папа, мама, Макар?
Савелий ответил:
— Да так… обнаковенно.
На его тупом лице что-то шевельнулось, и он неожиданно сказал:
— Тебе на станцию не надо? А то подвезу…
Она удивленно подняла брови:
— Я ведь и то со станции иду.
— Мг, — согласился Савелий, продолжая курить и не трогаясь с места. Надя пожала плечами и пошла дальше. Потом обернулась. Сани стояли на месте. Савелий все сидел неподвижно в санях и курил.
Поднявшись на бугор, поросший мелким ельником, Надя увидела нестерпимо сверкающий в свете солнца золоченый купол колокольни и тусклые голубые луковки Спас-Благовещенья, их приходской церкви. А внизу, у ее подножья, высовывая из-под ослепительного снега коричневые бревенчатые углы и темные треугольники дощатых фронтонов, лежало село. Так как ветра не было, то дымы из всех дымоходов шли вертикально к голубому морозному небу, и от этого вся картина дышала еще большим спокойствием. А дальше за селом, за еле угадываемыми, почти неразличимыми изломами заснеженных холмов, ощущался провал речной поймы, а еще дальше, за ней — левый, уходящий вдаль до горизонта низменный берег. Там, среди легких заиндевевших лесов тяжелела белая, словно тоже из льда и снега сложенная, громада Серапионова монастыря.
Надя спустилась с холма и пошла по дороге. Идти стало легко — почти все время с горы. Вскоре она поравнялась с крайними домами. Улицы были пустынны. Все было до того ослепительно-белое, что, когда Надя зажмуривала глаза, ей казалось, что все кругом ослепительно-алое. Так она шла по улице и то закрывала, то открывала глаза, превратив это занятие в чудесную и яркую игру: то весь свет был ослепительно-красный, то ослепительно-белый. А когда она подошла к их дому, она заметила у ворот трое городских санок с лошадьми, привязанными к забору, но без людей. А люди — среди них знакомые односельчане и дети — стояли на улице неподалеку от ворот небольшими кучками, по двое и по трое, и смотрели в одном направлении, неизвестно куда, не то вдоль улицы, не то еще куда-то. Казалось, они ждут заезжего фокусника или еще какого-то зрелища — и даже не ждут, а уже смотрят на него, и это не показалось Наде странным только потому, что она уж очень спешила домой увидеть своих родных.