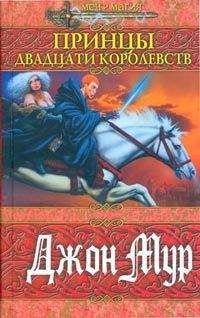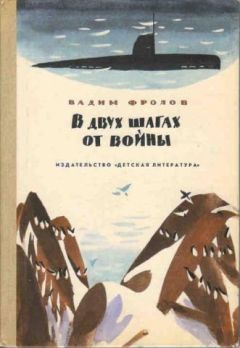Ходасевич Фелицианович - Белый коридор. Воспоминания.
Эта резолюция, конечно, весьма не понравилась устроителям «Дома Поэтов», ибо была столько же направлена против них, как и против московского центра. Однако она была принята единогласно всеми присутствующими, а затем подписана и всеми остальными членами Союза, не присутствовавшими на заседании. Таким образом, петербургское отделение перестало существовать, и возможность ревизовать его деятельность была заправилами московского Союза утрачена. Их цель заключалась в том, чтобы выслужиться перед большевиками, разоблачив петербургскую крамолу. После нашей резолюции, разоблачившей их кабацкое предприятие, они предпочли не доводить дела до начальства, и хотя могли потребовать отчета от бывшего правления о его бывшей деятельности, — предпочли смолчать. На это я и рассчитывал.
Ликвидация петербургского Союза не означала, однако же, ликвидации «Дома Поэтов». К этому времени он уже получил возможность существовать независимо от какого бы то ни было учреждения, как всякий другой ресторан, — и, действительно, его бытие продолжалось еще несколько месяцев, пока не закончилось грязной историей, о которой не стоит распространяться. Она носила уже гораздо более частный характер.
1933 г.
Неудачники
У Баратынского есть такие стихи:
Глупцам не чуждо вдохновенье.
Им так же пылкие мгновенья,
Оно, как избранным дарит:
Слетая с неба, все растенья
Весна равно животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретет?
Его капустою раздует,
Но лавром он не расцветет.
Как почти все эпиграммы Баратынского, это стихотворение, особенно в первой своей половине, заключает начало мысли очень серьезной, — может быть, даже грустной. Конечно, в литературном отношении очень забавно и само собой напрашивается на эпиграмму зрелище глупца, распираемого, «раздуваемого» поэтическим вдохновением. Но по человечеству — что тут смешного? Баратынский сам говорит, что вдохновение, дар небес, как весна — равно животворит всех — и умных и глупых. В душе глупца «пылкие мгновения» протекают так же, как в душе гения. Глупец, спешащий в стихах излить охватившие его чувства, по человечеству более достоин жалости, чем насмешки.
Смешны только его стихи — плод неосмысленного душевного порыва. Самый же порыв не смешон нисколько. Об одном таком существе, одержимом поэтическими стремлениями, недавно напомнила мне Марина Цветаева. В своих воспоминаниях о Максимилиане Волошине (в «Современных Записках») пересказала она историю моей встречи с некоей Марией Папер. Однако пересказ Цветаевой вышел неточен — не по ее вине: я рассказывал Волошину, Волошин ей — да и то было по крайней мере лет пятнадцать тому назад.
Два моих приятеля снимали двухэтажный флигель, нечто вроде студии, при особняке Петрово-Соловово в Антипьевском переулке, невдалеке от музея Александра III. В рождественский сочельник 1907 года устроили они у себя маскарад — один из тех несколько сумасшедших маскарадов, на которых в те времена завязывались и развязывались сложные истории — поэтические и любовные. Часов в шесть утра, когда я возвращался домой, было еще темно. Шла метель. Занесенный снегом, извозчик привез меня домой, в Николо-Псковский переулок, и я лег спать. Проснулся я во втором часу дня. Горничная Дуняша подала мне чай и сообщила, что какая-то барышня дожидается меня на кухне с семи часов утра. Столь ранний визит в первый день Рождества меня удивил.
— Почему же вы не сказали ей, чтоб она пришла завтра?
— Я сказывала. Они говорят, что хотят вас дождаться.
— Но почему же вы ее не провели в гостиную?
— Они не хотят. Пришли с черного хода да так и сидят на кухне.
Я выпил чаю, оделся и вышел на кухню. Там сидело на табурете какое-то существо в черном ватном пальто, набитом, как кучерская шуба. Барашковая приплюснутая шапочка была покрыта огромным серым платком, который, перекрещиваясь на груди, сзади завязан был в толстый узел. Поверх платка, на шнуре, висела барашковая муфточка бочонком. При моем появлении существо не пошевельнулось. Оно продолжало сидеть, растопырив руки в черных вязаных перчатках и тяжело упершись в пол резиновыми галошами, доходившими ему почти до колен. Снег, принесенный на этих галошах, растаял посреди кухни широкой лужей.
— Что вам угодно? — спросил я.
Не вставая и не поворачивая головы, существо пропищало:
— Я Мария Папер.
Такого пискливого голоса я отродясь не слышал и никогда не услышу более. Право же, он был разве только немного погуще комариного жужжания.
— Я Мария Папер. Я вам прочитаю мои стихи.
Насилу мне удалось убедить ее снять галоши. Шубы она не сняла и платка не развязала. Мы прошли в кабинет. Едва усевшись, она выхватила из муфты две клеенчатых тетради и начала читать. Личико у нее было крошечное и розовое — не то младенческое, не то старушечье. Между выпуклыми румяными щечками круглой клюквой торчал красный носик. Круглые карие глазки не смотрели ни на меня, ни в тетрадку: меня она как бы не видела, а стихи знала наизусть. Она лопотала их с такой быстротой и так пищала, что я ничего не мог понять. К стыду моему должен признаться, что вся эта сцена доставляла мне удовольствие. Мне было всего двадцать лет, я успел напечатать с десяток очень плохих стихотворений, и мне весьма льстило, что некая молодая поэтесса пришла ко мне, чтобы услышать мое авторитетное мнение. Я сам никогда не ходил ни к кому, но знал, что начинающие стихотворцы ходят к Бальмонту, к Брюсову. Словом, тщеславие во мне взыграло: недаром же говорит Гоголь, что всякий, хоть на одну минуту, делается Хлестаковым.
Наконец, я все-таки понял, что слушаю не стихи, а писк. Я попросил ее оставить тетрадки дня на два. Она ушла, я тотчас принялся читать. Стихи оказались разительной чепухой, выраженной, однако, по всем правилам стихотворства, разнообразными размерами, сложными строфами, с метафорами и другими риторическими фигурами. Единственная их тема была любовная, самые прямые эротические картины и образы так и сыпались друг за другом, причем очевидно было, что все это писано понаслышке. Не удивительно, что всего наивнее оказался обширный отдел, посвященный всяческим «извращенностям».
Через два дня Мария Папер явилась снова. Я сказал ей, что стихи плохи. Она ответила безучастным голосом:
— Я написала другие.
И вынула еще две тетрадки.
— Когда ж это вы написали?
— Я не знаю. Вчера, сегодня.
— Сколько же стихотворений вы пишете в день?
— Я не знаю. Вчера написала двадцать.