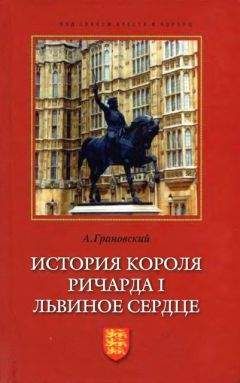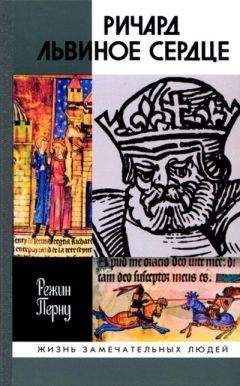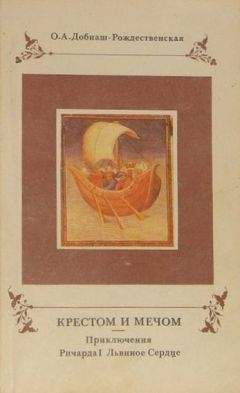Николай Оцуп - Океан времени
«Губы иссохли, остались уста…»
Губы иссохли, остались уста,
Глаз не осталось: пара очей.
Сколько займет дней и ночей
Ночь Иоанна Креста?
«О, если б мне с нею обняться…»
О, если б мне с нею обняться
И в вечность вдвоем унестись,
О, если б над миром подняться!
Но слезы напрасно лились…
«Да будет так. Не мой же это дом!..»
Да будет так. Не мой же это дом!
Из тела никнущего жизнь Ты вынешь.
В смирении стою перед концом,
Но знаю, что Себя Ты не отнимешь,
Все это раньше быть могло,
Но медлил Ты, чтоб я и сердцем понял:
Отечество не Царское Село,
А благоденствие Твое в Сионе.
Кто псалмопевцу-грешнику ровня
В уменье петь и силе покаянья?
Но перед смертью есть и у меня
Свидетельство почетного избранья.
ДНЕВНИК В СТИХАХ. Поэма[7]
Часть первая (1935–1939)
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.
Пушкин
1
Хорошо писать на облаках,
Хорошо, что это бесполезно,
Хорошо, что лучшее в стихах
Безответно. В черной и железной
Связи поездов и городов
И могильных памятников все мы
Глохнем для небесных голосов,
И любви чистейшие поэмы,
В общем, пишутся ни для кого
(Не для автора ли самого?).
Если будет у меня читатель,
Может быть, его не удивит,
Что забыл я, как богоискатель,
Меру восхищения и стыд.
Но с двумя не говорит ли третий
Где-то там, на дивной высоте,
Если мы доверчивы, как дети?
Все мы братья и по суете,
И по муке. Встретимся же, дальний,
С дальним — в климате исповедальни.
Как ни утешительно узнать,
Что другое сердце отозвалось,
Что ему приятно повторять
Что-то из тебя, хотя бы малость,
Радостно при жизни, а потом,
Вероятно, и того блаженней, —
Не достойнее ли: ни о чем
Не загадывать и без сомнений
Делать то, что делаешь, любя
Все, что хочет выразить себя.
Это — пчелы, да, сегодня — пчелы
Над цветами или муравьи,
Это — море летнее и голый
Камень, и над всем глаза твои.
Ты, меня вводящая в природу,
Как впервые голос вводят в хор,
Ты со мной все глубже год от году
Проверяешь прошлого позор,
К новому меня подготовляя,
Словно здесь бывает жизнь вторая.
В образе Архангела с мечом
Я тебя всего яснее вижу.
Ничего, что в платье городском
Ты запоминаешься Парижу.
Ты давно покинула сама
Блеск и бестолочь столицы вздорной,
Окрестившей — «горе от ума» —
Жребий твой и в самом деле спорный:
Слишком он трагичен, слишком чист
Для красавицы и grande artiste.[8]
Да и что такое жрец искусства?
Грозную и с ним ведут борьбу
Не туда направленные чувства,
И читаешь у него на лбу,
Что до гроба здесь благополучен
И увенчанный не может быть.
Ведь мечта, с которой не разлучен
Был Толстой, — и участь разделить,
И владения с простым народом —
Не случайно кончилась уходом.
Если это и нелепый жест
И уже, конечно, запоздалый,
Лучших много ли найдется мест
В прошлом человечества? Пожалуй,
Лишь одно сильнее для меня
Более суровое виденье:
Гоголь перед смертью у огня,
И его, как жертва, сочиненье
На уже обугленных листах,
И почти безумие в глазах.
Что искусство? Как свечу, задули,
Стоит только буре жизнь рвануть.
Словно с облегчением под пули
Два поэта подставляют грудь.
Потому что дорожить не стоит
Через меру делом рук своих,
Потому что кровь обиды моет…
Может быть, у младшего из них
Все к развязке более готово
В середине странствия земного.
Лермонтова только увели,
Только сократили срок изгнанья…
Старший не ушел бы от земли,
От всего ее очарованья
Рано так, но формулы случай:
Моцарт и епископ Колоредо,
Пушкин — император Николай…
Муза, католическое credo,
Музыка и власть… Знакомый план:
Блага капелька, но весь тиран.
И мечтаешь: может быть, в лазури
Хорошо, а так не стоит жить —
Надо ненавидящих от дури,
Нежных от бездушия лечить.
Будь не слишком необыкновенен,
Друг, меня уверивший: дойдем! —
Я бы, вероятно, как Есенин,
На крюке висел под потолком.
Все чернее делалось и диче,
И явилась ты, как Беатриче.
Нет, не Беатриче, ведь она
Только символ чистоты небесной
И в поэзии наделена
Благодатью после жизни честной
И обыкновенной. Встреча с ней
В переулке слишком мимолетна,
И поэту от ее речей
Радостно, когда она бесплотна
И когда он лучшее свое
Выразил стихами за нее.
Ты не Беатриче, ты другая —
И, не только вечностью жива,
Говоришь со мною не из рая,
И свои лишь у тебя слова.
Ты не триумфально-безупречна:
В жилах — кровь, и для полубогинь
Слишком ты (без меры) человечна,
Но, далекая и от рабынь
С их мечтами об одном полезном, —
Вся ты и в реальном, и в надзвездном.
И задача легче у меня,
Чем у гениев литературы:
Твой, не обеляя, не черня,
Образ истинный — писать с натуры.
Что-то и в телесности твоей
Не совсем, по-моему, телесно,
Словно ты гостишь среди людей,
Будни ноткой радуя воскресной,
И в лицо, как можешь ты одна,
Ты сказала, в чем моя вина:
«Слабый и на легонькое падкий,
Мужа, если даже очень злы,
Не смущают резкие нападки,
И не опьяняют похвалы…
И в заботы о благополучие
Всем ты увязаешь существом,
Словно муха в кружево паучье,
И мириться любишь ты со злом
И его не слышать и не видеть
Из боязни сильно ненавидеть.
У тебя врагами каждый день
Были: неразборчивое счастье,
Как двойник, похожее на лень,
И безрадостное сладострастье.
Не умея не предпочитать
Дальним арфам чувственную лиру, —
Не очистившись, ты смел блуждать
В поисках ответа по эфиру.
Труд напрасный: в жизни и стихах
У таких, как ты, хозяин — страх.
Вам не раз, как будто за пределом
Здешнего — обманывает слух, —
Кажется, что, пренебрегший телом,
Вырвался освобожденный дух.
Но куда? В пространство ледяное,
Где — уже напрасно не зови!
Не утешит слабое, земное,
А высокий холод без любви,
Словно для приговоренных плаха, —
Школа мученичества и страха!»
Страха, что срываешься в дыру,
Видную из-за оконной рамы…
И подходит к смертному одру
Ужас в образе прекрасной дамы.
Ужас, все на свете потеряв,
Не увидеть и другого света,
И на части стонущий состав
У с ума сходящего поэта
Рвется, и к нему жена и мать
Смерть на помощь вынуждены звать.
Рано мы похоронили Блока,
Самого достойного из нас,
Менестреля, скептика, пророка
Выручил бы голос или глас…
А его лиловые стихии
С ней и с Ней (увы, «она» была
Отвлеченной) и любовь к России,
Даже и такая, не спасла…
Разве «та, кого любил ты много»…
Но молчу, не надо эпилога.
Жаль поэта! Он-то заслужил
Менее мучительной кончины…
Некто выбивается из сил
В тридцать лет без видимой причины.
И тогда, кто знает почему,
Что-то вроде медленной расплаты
Выпадет на долю одному,
А другому, худшему, — вожатый,
Чтобы поднимался вновь и вновь,
Чтобы высветлить пытался кровь.
Смерть ли до того была желанна,
Что узнать настала мне пора,
Что такое сердце. Окаянна
Для тебя душа, еще вчера
Низменная, твоего поэта,
Но ее ты любишь новый звук.
Беатриче льстивого привета
Не произнесла, и слез и мук
Данте стоила в преддверье рая
Отповедь ее. Меня такая
Ты остановила на земле.
Без лирического поцелуя
Ты со мной, потерянным во зле,
Так заговорила, негодуя.
И давно знакомые слова
Солнце слушало и все другие
Звезды, и на миг едва-едва,
Как понявшему на литургии
Смысл ее, — мне приоткрылось то,
Что забыл я и бездонно что…
2
Для меня и сельская эклога,
И моление о небесах,
И о бесконечности тревога,
И страдание в земных глазах —
Слиты воедино в чем-то вроде
Ощущения души живой
В новой удивительной природе,
Как и все открытой мне тобой…
С веком техники, борьбы, науки
Я уже и в мире, и в разлуке.
Мы о Том, Кто родился в хлеву,
Так примерно: сверху или снизу
К совершеннейшему существу
Все приводит. Только по капризу
Сотрясающих природу сил
Как же в ней могло возникнуть Слово?
Или в Нем себя освободил
Мир от притяжения земного
Страшными усилиями сам?
Здесь ли Он задуман или там?..
Он у нас и светлый, и лазурный,
И дающий все, что ни спроси, —
Словом, чуточку литературный
И торжественный: на небеси!
Но живущий не единым хлебом
Человек не так уже нечист,
И бледнеет перед звездным небом
Временами и позитивист,
И на дне трагедии любовной
Первый опыт веры не церковной.
«Я хотел бы веровать, как ты,
Без патетики религиозной.
От Него ли столько чистоты
У тебя и ласковой, и грозной?»
«Замолчи! Нельзя: сопоставлять
Имя с именами!» — «Мне понятен
Он, когда я смею обожать
Здесь тебя: уж слишком необъятен.
Больше, чем обряды и посты,
С Ним судьбу мою сближаешь ты.
Научи, какая же дорога
Для меня кратчайшая к Нему?
Молишься ли ты?» — «Я верю в Бога,
Но молиться либо ни к чему —
Он и сам тебя услышит, — либо
Хватит от души произнести
Два-три слова, например: «Спасибо»
Или же: „Спаси меня, прости!"»
«Как все просто у тебя. А мы-то:
Все разъедено, все ядовито.
Мы — какой-то в кляксах черновик
Будущей свободы планомерной,
Двух эпох еще не прочный стык…
Я не маловерный, двоеверный.
А, как ты, хотел бы цельным быть».
«Слушай совесть. Пытка в дни такие
Только по ее законам жить,
Но добра, как чуда в хирургии,
Грех не добиваться, и оно
Мучить для спасения вольно».
«Что же за меня в тебе болело,
Что, со мною нежностью делясь,
Словно лихорадочно за дело
Надо было взяться, ты взялась?
Я уже не молод, жизни новой
Мне, как ни хотел бы, не начать».
«Ни к чему, и к смерти, не готовый,
Ты бы должен прошлое понять.
Бывшего ничто не уничтожит,
И на нем душа учиться может».
Как печально ты произнесла:
«Бывшего» и грустно как смотрела.
Помню, у какого-то стола
Ты в каком-то городе сидела.
И, как в римском воздухе весной,
Дивное просвечивало что-то
За твоей поникшей головой
С чуть заметной солнца позолотой —
Больше, чем простая доброта
Или милосердие? Pieta.
Как такое жжет и помогает,
Жизнь прожить — не поле перейти,
Жаловался, что в строю шагает,
А придется по миру идти.
Ранили, унизили, сослали,
Жизнь прожить — не поле перейти,
Долго слезы у меня бежали,
И скитальца видел я пути,
И свое оплакал, и чужое,
И раскрылось что-то основное.
Ядом поколенья моего
(Древним, как земля, но обновленным),
Не любя иронии его,
Дышишь ты с каким-то как бы стоном.
Слыша: будь, что будет, все равно;
Видя: ни законов, ни запрета,
Знаешь, как талантливо-умно
У людей новейшего завета
Утешенье: ничего, сойдет
(А не сходит, совесть восстает).
То, чему и не поможешь, — где там,
От чего подальше, и скорей…
То, что приближается к рассветам
По холодной трезвости своей.
То, что полугибель, полувера:
Жить не стоит, и нельзя не жить…
То, что не причуда — атмосфера,
Где тончайшими умеют быть
Получувства… То, что миром третьим
Я назвал бы (между тем и этим),
Где одна лишь заповедь: ничем
До конца не стоит восхищаться —
Не всегда, не очень, не совсем;
Где не преступления боятся,
А смешного, — вот с какой пришлось
Мудростью тебе во мне столкнуться,
Ты меня увидела насквозь,
Я тебя заставил содрогнуться:
Поняла и сердцем, и умом,
Чем я буду на пути твоем!
От карандаша и папироски
Ярко-алый станет, не живя,
Рот, давно ли лакомый до соски,
Входом для могильного червя;
Видно, от больниц и санаторий
И конвертов с траурной каймой
Не доносится «memento mori»
До ушей красавицы глухой.
От нее, как от дурного глаза,
Зла распространяется зараза.
Есть у женщин, даже с площадей,
Для побед холодных и умильных —
Пробуй, но потом не пожалей! —
Запах вкрадчивый духов могильных.
И, его вдыхая на балах,
Сколько обольщается влюбленных,
Он под утро в томных простынях
Юношей терзает воспаленных.
От него — истома и озноб,
От него — мечты о пуле в лоб.
Он во все волнующее вкраплен
И приятен, как душистый мед,
Потому что, если гроб поваплен,
Дух медовый от него идет.
Веющий от свадебного трена
Тысячи и тысячи невест,
Запах, ненавистный, как измена,
Сладостен для пораженных мест
В сердце подготовленном мужчины.
Безнадежный запах мертвечины!
И внезапно что-то, как в горах, —
Сразу и не знаешь, что такое, —
Что-то, без чего бы мир зачах,
Освежит сознание больное.
Чайльд-Гарольда горестный урок,
Баратынского разуверенье,
Мгла, в которой задохнулся Блок, —
Это сожаленье и моленье
Не о том, чего на свете нет,
Но о том, что обещало свет.
3
Тяжело с душою и талантом
Жить на свете — с детства тяжело.
Есть у девочки с огромным бантом
Все, о чем другие: повезло!..
Что же личико ее серьезно,
Так серьезно, от каких забот?
Сердце человеческое поздно
Жребий свой обычно узнает,
А ее уже как будто ранит
Что-то, что ее судьбою станет.
То, чего не стоит объяснять,
Что ему, и взрослому, спросонок
Иногда мерещится опять,
Чувствует болезненно ребенок.
Вслушиваться надо в детский плач,
В голос одиночества: впервые.
На веранде хлопотливых дач
Есть ли звуки более живые?
В них предчувствие: не обойтись
Без того, чем пращуры спаслись!
Сколько в синем воздухе снежинок,
И голландским шагом по кривой,
Без стремительности, без заминок,
Как ты по льду в шубке меховой
Плавно движешься на длинных ножках,
Белая снегурочка в снегу.
Ты — в высоких до колен сапожках,
И в твоей улыбке на бегу —
У отмеченных такие лица —
Что-то, с чем нельзя же примириться.
Хочется рассеять и развлечь,
Грусть твою развеять, голубочек,
Хочется от правды уберечь,
Но для зрячих нет уже отсрочек.
Хрупкое и странное дитя,
Так бесстрашна, как не все герои, —
Как же ты намучишься, платя
И за неуменье жить в покое,
И — когда в опасности другой —
За уменье жертвовать собой.
Возраст человеческий, на свете
Нет значительнее ничего:
Взрослые и юноши и дети —
Три народа царства одного.
Сколько их объединяет сходных
Склонностей, но, кажется, одних,
И горячих (с детства), и холодных,
После заблуждений молодых,
Если быть, как раньше, не терпелось,
Вновь облагораживает зрелость.
Потому что может каждый час
Быть последним, потому что дети
Умирают, как любой из нас,
Жить успевших, — никому на свете
Не забыть начала дней своих,
Грустного блаженства под угрозой
Мук — не от своих, так от чужих..
Сколько раненных бесстыдной позой
Сквернословием: один намек,
И — подточен ломкий стебелек.
Но силен и дух. Дитя, чьи косы
Золотые падали до пят,
Та, чьи «други» первые и босы,
И в лохмотьях (ты им, говорят,
Свой тайком носила школьный завтрак),
Та, чье многие тогда уже
Славное предчувствовали завтра,—
У тебя на первом рубеже —
Не восторга беззаботный лепет,
А негодованья скорбный трепет.
Про нее сказали: Гамаюн,
Вещая и раненая птица,
Столько было в ней задето струн,
О которых детям и не снится.
Ей не мать кормилицей была,
А цыганка с долей беспокойной!
Не она ли ей передала
Всю неукротимость крови знойной,
В хрупком теле, тонком, как стрела,
Не она ли ловкость развила?
В молодости ярко осиянна
Аполлона царственным лучом,
В детстве ты, как волны океана,
Не дневным влекома божеством.
Друг на друга странницы глядели:
Ручки вытянув перед собой,
Ты, смертельно бледная, с постели
Ночью поднималась под луной,
Чтобы вырваться на зов богини
На простор, серебряный и синий.
Ножками босыми весь ты сад
Обойдешь с закрытыми глазами
И вернешься медленно назад.
А она небесными путями
Шла и ворожила над тобой.
Может быть, охотница Диана
В детстве и смутила твой покой,
Может быть, и стрелы из колчана
Своего она тебе дала:
Прямо в сердце каждая стрела!
Но глубокой доброте природной,
Как ни горделиво-хороша,
Ты не изменила: благородной
И была, и выросла душа.
Не страшат ни ведьмы, ни Кащеи!
Классной дамой брошенный, дневник
Ты не подняла: и детской шеи
Никогда не гнула. Злой старик —
Попечитель, дело разбирая,
Улыбнулся: гордая, какая!
Гордые не сами по себе,
А тогда сердцам бывают любы,
Если в них, наперекор судьбе
И ее настойчивости грубой —
Сказывается, высокий строй
Чистой от рождения природы,
Потому что истинный герой —
Друг несуществующей свободы
И в каком-то смысле враг людей,
Не подозревающих о ней.
4
Нечто вроде солнечной системы
(Тем же притяжения путем),
Спутники лирической поэмы
Движутся в пространстве мировом.
Тема пробегает, как планета,
И уже стремится за другой
Благодарная душа поэта,
Но, и той давая, и любой
Свет и направление, — сияет
Солнце и системой управляет.
Как светила близкого зимой
Бледен луч рассеянный и робок, —
Для меня сияет образ твой
Неотчетливо со мной бок о бок!
Но в разлуке прямо бьют лучи
Издали и жгут, как солнце летом,
В мировом пространстве горячи
Наши встречи. Над своим поэтом
В самом ярком свете ты горишь
Где-то там… О нет, не только лишь!
Сказочки Овидия читая,
Грустно улыбаюсь: для ума
Это сна и юга ткань сквозная,
За которой знания зима.
Но зато и в холоде полярном
Геометрии меня зовет
К формам вдохновенно-планетарным
Чудный, как поэзия, расчет,
И прекрасен мир, как древле боги,
И досадна роскошь мифологий.
Как звезда не больше в телескоп,
Чем для глаза ложное сиянье, —
Истину, как лучезарный сноп,
Окружает пышное преданье.
На увеличительном стекле
Знания она горит, как точка,
Очень ярко в очень резкой мгле:
Казнь! Все остальное — проволочка!
Чем, и где, и как ты ни займешь
Голову, а надо ей под нож.
Все живущие одновременно,
Капельки волны очередной,
Становящиеся постепенно
Новой поколения волной,
Чья забота главная: полвека
Чем-то отличаться от других,
Знаем же — и глупый, и Сенека, —
Между всеми нами нет таких,
Кто бы мог хотя бы на мгновенье
Той волны остановить паденье.
Где-то, миллионами гробов
Осыпаясь, надо ей разбиться,
Чтобы, новых унося отцов
И детей и покрывая лица
Мелкими морщинами, волна
Новая, от жизни отрывая,
Тоже рухнула и тишина
Чтобы поглотила вековая
Поколенье новое… Вперед,
Малая частица многих вод!
Что там?.. Бабочка или снежинка
В воздухе порхает или цвет
Яблони осыпался?.. Заминка
Благодатная: в природе нет
Прелести, которая меня бы
Не вернула бережно к твоей…
Наши санного пути ухабы,
На спине верблюда качка… Змей
Кожа новая, и на Аляске
Лай собак в запряжке… Или сказки
Могут с точными соревновать
Правдами земли?.. Но без царевны
Разве можно обойтись?.. Опять
Ты, и всюду ты… где бури гневный
Вой, где с экипажем корабли
Под обстрелом вражеским кренятся,
Тонут, где невесту повели
К алтарю, где очень веселятся,
Очень жалуются, — лишь на миг
Я задерживаюсь. Тори, виг,
Гугеноты, гвельфы, гибеллины
И эсеры и меньшевики —
Все уже истории картины…
Князь и бард, такие-то полки,
Папа, комиссары… Оторваться
Трудно. Только все же не совсем
Зритель я: нельзя не восхищаться
Мне землей, в веках дружу я, с кем
Приведется, — но твоя над всеми
Жизнь, и у тебя в моей поэме
Не короткое дыханье, чтоб
Лирика манерная твердила:
«Разочарование и гроб,
Скука и влюбленность и могила,
Стилизация обречена:
Все вокруг отчаянней и проще,
Чем в несчастий говоруна.
Правды жесткой, высохшей, как мощи,
Отрезвляющей прекрасен взгляд,
Но чревовещания смешат.
Жизнь неистребимую люблю я
Даже в перерыве всех смертей,
Все мы ужасаемся, ликуя,
Словно нам история людей
В чем-то самом личном, самом главном
Не загадка… Человек, ау!
В Тоуэре ли был ты обезглавлен
Или же томился в Гепеу, —
Мы твоей живем надеждой, дрожью,
Ужасом. Покрыто поле рожью,
Как во время Ярослава.
Бык Важен, как в эпоху Псамметиха,
Царственный пленителен старик,
Как Приам, какая-то купчиха
Так же прячет выручку в сундук,
Как иной хотя бы в дни Пилата,
Так же для искусства и наук,
Юноша худеет, как когда-то…
И мечта одна у многих: спать
(По Буонарроти: камнем стать).
Революция, ломай устои,
Но пускай в пробоину пахнет
Черноземом. Тихие герои,
Вытирая августовский пот,
Пусть с серпами и косой, полями,
Как всегда, проходят; птицам петь,
Сеять сеятелю, над волнами
Путешественнику вдаль смотреть…
Повторяйся, жизнь, твоя похвальна
Деятельность: правда не банальна.
Хорошо, что остановок нет
Даже в возвращениях к тому же,
Что уже знакомо. В снег одет
Луг. Сияет на замерзшей луже
Солнце, как в Михайловском, когда
Он писал «Онегина»… Скажите:
Да, и кто-то отвечает: да…
Все, что было… Миллион открытий…
Тем и потрясает новизна,
Что совсем не новая она.
5
Дворник возится с метлой и скребкой,
Каблуками к камню снег прибит,
Мчится крейсер, спичечной коробкой
Кажущийся трезвым, но летит
Он в открытом море, и пираты
Почему-то стерегут его…
За двойную раму с лентой ваты
Прячутся от этого всего
Старый генерал с женой: покуда
Май не на дворе, страшит простуда.
Здравствуй, царскосельская весна,
Отступившая в воспоминанье…
Гимназические времена…
Мальчик, и семья, и мирозданье…
Сколько мне сегодня? Тридцать семь,
А тогда четыре, восемь, десять,
Но исчез ребенок не совсем:
Если приобретенное взвесить,
Вряд ли много тяжелей оно
Дней, когда впервые все дано.
Дней, когда балтийскую громаду
Вод я благодарно узнавал
И Екатерининому саду
Первые стихи мои читал:
Дней, когда, брезглив и целомудрен,
Я умел уже страдать. Сейчас
Умудренным, если и не мудрым,
Став, я вижу ясно: тем, что нас
Дичает, жили мы и в детстве
(А не раньше?)… Сколько соответствий!
Как у осени одно с весной —
Нервность, остановки, замедления:
Там предчувствие с его борьбой,
Здесь ее итоги, сожаленья,—
Так и я сейчас и на песке
Мальчик, морю душу отдающий,
Или гимназистик в башлыке,
С опозданьем на урок бегущий,
Сходны, как и наши музы и
Лучшие — о ней — мечты мои.
Робость мне тогдашняя дороже
Лет самоуверенности злой,
И теперешнее так похоже
На восторг незагрязненный мой.
У ребенка ангел был хранитель,
Вероятно, а сегодня ты,
Очень светлый падшего спаситель…
Крылья двуединой чистоты
Надо мной, и что когда-то снилось,
Понемногу в жизни воплотилось.
Снилась ты не именно такой
И еще не женщиной, пожалуй,
А какой-то мукой световой,
Чем-то, что еще не означало
Ничего доступного глазам
Или слуху. Как я был рассеян
И чувствителен и, злые, вам
Был мишенью… И сейчас овеян
Опыт закаленного раба
Тем же: с очень многими борьба.
Детская до алгебры, до класса,
Что-то за окном, пожалуй, дождь,
«Павлик!..» Нет, не понимаю, «масса»…
(Он сегодня нагарнукский вождь.)
Ну же, вскачь (на стульях)… Ниагара…
Где-то мама разливает чай
И зовет и ждет у самовара,
А у нас уже война — банзай!
И — ура! и новая забота:
Надо не забыть и Вальтер Скотта.
А потом и первые стихи,
И какой-то пьесы постановка…
Шалости (не те еще грехи,
О которых вспоминать неловко),
И влекущая, как тайна, корь
С негой и тоской выздоровленья,
И «Дворянское гнездо», и «Хорь
И Калиныч» или сочиненья
Чехова, и, сладостен и нов,
Будто бы не чудо, Гончаров
(Но, конечно, не «Фрегат „Паллада"»).
Кто еще? Да что перечислять
Всех, чье имя и сейчас услада…
Все они склоняются, как мать,
Над душою отрочества нашей,
И писать хотелось самому,
И, Мироновой любуясь Машей,
Выяснить впервые, почему
Швабриных не убивает слово:
Этот уличен, терпи другого.
А пока симпатии волна
Обволакивает тех без шума
Рыцарей, с которыми страна.
Вот и Государственная дума —
Как ни двойственна, туда же гнет:
Жизнью платят Герценштейн и Иоллос
За сочувствующий им народ.
И волнует Немезиды голос
Гимназиста и его мечту
Гневную: дай только подрасту!
Мальчик в рукавицах и с коньками —
Вдруг застигнут, — не спеши домой! —
Грозно высыпавшими звездами…
Близок тот священный ужас мой
И сегодня мне, и самый ранний,
Самый первый (где-то на руках
Акушера, мамы или няни),
Тоже, содрогаясь, помню страх.
Но сильнейшие — от возмущенья —
Были у меня сердцебиенья.
На большой дороге: Карл Моор,
Наш Дубровский (чтобы Троекуров
Знал, что может и к нему на двор
Суд пожаловать)… На самодуров
Где управа? Купленных властей
Кто не убоится? Кто от злобы,
Доброй злобы, страшен, как злодей?
Рыцарь — Наказание, и, чтобы
Помнил о возмездии Мак-Кой,
Братья Джемс явились, их разбой.
В унижении золоторотцев,
Блатом совесть кроющих бродяг,
Так продрогших, как вода в колодце,
Всех, кто обществу и чести враг, —
Тоже видим золота крупицы
(Без игры словами), и Челкаш,
Вор и барин, и на дне столицы
Все огарки, все вы тоже наш
Предостерегающий учитель,
Мельче тех, блистательных, но мститель.
У таких-то много тысяч душ
Было, вспомните, еще недавно,
И отечественной спеси чушь
Человек сносил, платя исправно
Честью, и боками, и спиной,
И трудом постыдные, налоги,
Чтобы Колокол над, реей страной
Загудел, и вышли на дороги,
Свой помещичий бросая дом,
Люди гнева: прошлое на слом!
Все разделано, и в лучшем виде,
И не вынести ужасных ласк
Родины, и в тесноте — в обиде
Слушает ребенок цепи лязг.
Арестантика ведут, жидочка
Убивают, бомба мести в прах
Обращает Плеве… Что ты, дочка,
Плачешь о каких-то пустяках?
На каток ходи, учи уроки,
А про то, что наступают сроки,
Пусть его унылый модернист
Жалуется… Но метелей кубок
Так уже похож на бури свист!
Не до воркования голубок.
И напоминает Циммервальд
Пролетариям объединенным:
Скоро! prochainement! Тга росо! Bald!
Девочка-снегурочка, Мадоннам
Всем на свете слезы лить теперь:
Грозный век приоткрывает дверь.
Русский обыватель солидарен,
Хоть и думать страшно про него,
С тем, кто говорит: пожалте, барин,
И следит за дачей Дурново.
Человек с лошадкой и пролеткой
Запасает нитроглицерин,
Чтоб, измученный кнутом и водкой,
Стал свободным робкий гражданин
(Но, молясь на революционера,
Зритель не берет с него примера)…
И восторженная чепуха
Озирается на Запад чинный,
Где уже — подальше от греха —
В школу ходят пасынки чужбины…
Отдана и девочка в коллеж,
И, пленительная, как пастели
(Возле blanc et rose — marron et beige)[9],
В снежные она глядит метели,
Грозный и благословенный ад
Восстанавливая наугад.
6
Русское Евангелие, в котором,
Похотью измучен и страстьми,
Человечек с мукой и позором
Гнется перед сильными людьми.
А на Западе лишь начинают
(Через силу) те же песни петь,
Здесь и христиане забывают,
По какой спине гуляла плеть,
В чье лицо, отхаркавшись, плевали:
Он у них — в лазури, в идеале.
Что уж говорить — юродивых,
Пьяненьких, развратненьких — недаром
Бодрость поколений молодых
Не могла терпеть и в мире старом
Жалкий позабыть хотела тип,
Только жив Акакьевич Акакий,
И еще Голядкин не погиб,
Если даже сбрил усы и баки
Взглядом их казнящий генерал.
Унижение — наш идеал.
Век униженных и оскорбленных
Вот и для Европы наступил
В пытках, но, конечно, и законах
Всю ее разворотивших сил.
Многие теперь поймут, быть может,
Русскую загадку, всё поймут
Те, кого история положит,
Позабыв приличия, под кнут.
Но приличий ведь не соблюдали
И тогда, когда Христа стегали.
Смертоносный и великий век,
Вот уже воистину бич Божий!..
Сколько ущемленных и калек,
Сколько благородных с битой рожей,
Сколько честных и уже лгунов,
Уступающих, но поневоле,
Сколько мыслей не находит слов,
Сколько чувств, замученных в неволе,
Сколько слез, таимых про себя…
Дух насилия, боюсь тебя.
Ты на всем, незримый, как давленье
В тысячу и больше атмосфер.
Только нервное сердцебиенье
Подтверждает: из далеких сфер
Страшно к нам приблизилось такое,
Что уж не по росту никому,
И гордишься все-таки, и вдвое
Больше пищи сердцу и уму…
Смысл явлений, я в тебя вникаю
И не жалуюсь, не проклинаю.
И читаю огрубевший мир
Без эгоистической печали.
Да, как собеседников на пир
Боги современников призвали.
Мы не прочь бы заявить отвод:
Не для нас вы писаны, законы…
Только утверждает их народ.
И не мил ему самовлюбленный
Знаменитый сноб очередной
С опытом и тайной половой.
Суд земной свершается над нами,
Помню, что лежачего не бьют —
Только трусы, становясь врагами,
Брошенных друзей не узнают.
Да, я враг себе в недавней прошлом:
Изменила жизнь её мою
Сверхъестественно, и я не в пошлом,
Не подлаживаясь к бытию,
Я своей дорогой сердца-ада
Шел к тебе, истории громада.
Нет свободы, но и от свобод
Мелких надо отрываться: много
Унесло в разливы многих вод.
Разве и потопы не дорога?
Я за победителем не шел,
Я в себе, переживал такое,
Рядом с чем уже, не произвол —
Нападение на все устои.
Сам в себе не мог не видеть я:
Гений века — революция!
«Умник, изощряющий в вопросах
И полуответах жизнь свою,
Посох в руки, не перо, а посох!
Не таись — настигну и убью!
Вон из дома, на позор, на стужу,
Неженка, развратник и эстет!
Будешь жить, как подобает мужу,
Если в самом деле ты поэт».
Вот что слышал я сквозь голос бури,
Для расправы развязавшей фурий.
«Эй, довольный, баста, слезы лей, —
Пело одному, — и слезы дело!»
«Эй, богатый, да еще еврей,
Посох в руки», — над другим свистело.
Отпрыск Агасфера, скорбный дух,
Что гнездо твое? Солома, сучья…
Как ты отвратительно распух
От нечистого благополучья…
Эй, вы, засидевшиеся, все,
Вот я вас! О, суд во всей красе!
7
У подростка-дачницы минутки
Нет в июньском зное для тоски.
Словно голубые незабудки,
Голубые вьются мотыльки,
И, глазами серо-голубыми
Отдыхая в небе голубом,
Девочка, скучавшая с большими,
Наконец одна и босиком.
Ну а завтра — пиршество какое!
Все она наденет голубое.
Вот уже купается она,
Легонькая, тоненькая, цапля.
Как ее прозвали: так длинна
(Больше и не вырастет), и капля
Каждая чудесна, каждый брызг
Радуге существованья нужен…
Одиночество… веселья визг…
Сумерки, и на террасе ужин…
Все благословенно, и в груди
Что-то шепчущее: счастья жди!
Где тебя на себе не кружило?
Но взыскуем почвы на волнах,
И тебе в начале жизни было
Все милее не в чужих краях:
На Украйне или на Кавказе
Детские каникулы твои —
Самообладание в экстазе
Скачек поутру и соловьи…
Пережитого узор: дорожки,
По которым ножки, ножки, ножки!.
Как не петь за ним о ножках всех,
Стебельках волнующих, несметных!
Снова прославляя чудный грех
Вашего соблазна, в безответных
Песнях будет не один поэт
Легкими и стройными томиться.
Но куда ведете вы? На свет?
Или воля возле вас — темница?
Вот он все решающий вопрос
(А не каждый до него дорос).
Ты в консерватории по классу
Композиции… Бах, Дебюсси!
И в Сорбонне учишься до часу…
Но едва войдешь: «Vive la Russie!..»[10]
«Ах, несносные…» Уж по пюпитру
Лектор бьет ладонью. Ты бледна.
А студенту, красоты арбитру,
Радостно, что смущена. Весна!
Если б вы и сам профессор в тоге
Знали, что идет, что на пороге.
Темный век таинственно приник
И к тебе, и к ним и тяжко дышит…
У тебя Стюартов воротник,
Все тебе к лицу: шелками вышит,
Шел тебе недавно сарафан
Детский и козловые сапожки,
Но в костюме от Пату твой стан,
В чудо-туфельки обуты ножки,
Скажешь — дама, видевшая свет,
А всего-то ей пятнадцать лет.
Близится гроза… Трепещет юность
Полудетская. Уже зашла
Бальмонта колдующая лунность
Там у нас. Еще цветами зла
Наше не успело поколенье
Декадентский выправить словарь,
Парниковое дурманит тленье
Петербуржца, и Валерий — царь,
И еще не понимают Блока,
Но пророчествуют: свет с Востока!
А тебя уже в России нет!
Очень ясно вижу я прямую,
Тонкую, душистую, как цвет
Яблони, и дико молодую.
Ты уже замечена, тобой
Раньше, чем загрохотали пушки,
Свет любуется. Хвалы какой
Не услышат крохотные ушки…
И опять не терпится домой,
И гостишь на севере зимой.
Петербург. Дворянское собранье.
«Вот и я большая! Первый бал…»
С ним (а кто он?) первое свиданье.
Платье длинное. Уже настал
День победы, гордый и стыдливый.
Голубые перешли тона
В белоснежный: все, чем сердце живо
Девичье. Да ты и влюблена…
В музыку и солнце… но такое
Сразу переходит в золотое…
Золотое — это если свет
Заливает всю неудержимо,
Это — восемь бед, один ответ:
«Счастье, счастье, не пройдешь ты мимо!»
И Москва, и берега Невы,
Каменных своих очарований
Тяжесть чудно озарили вы
Образом Наташи или Тани.
Раньше, чем от многого устать,
Как же им хотелось счастье дать,
Ну и взять… Они, как май на юге,
В щедрости. И как ни грозен фон
Мира, в вас, чудесные подруги,
И разочарованный влюблен…
Кто же обаятельней — Ростова
Или Ларина, а ну, реши!
Что за душка первая, и снова Таня…
Кто?.. Да обе хороши…
Хороши каким-то благородством
Прелести, усиленной уродством,
Якобы уродством юных лет,
Юных восхитительных ошибок…
Будто уж и у тебя их нет…
Но характер у тебя не зыбок,
И глаза огромные, и рот
До того серьезны, что неловко…
А уж как тебе зато идет
Детский смех. И это не рисовка:
Так зиме под Ниццей вопреки
Розы кутаются в лепестки.
Лайковые до локтя перчатки,
Ландыш на груди… Шестнадцать лет…
Узенькая туфелька, и гладкий
Отражающий ее паркет.
И гусара каблуки и шпоры,
Чтобы рядом топать и греметь,
И военной музыки на хоры
Ярко взгромоздившаяся медь,
И под звуки «На волнах Дуная»
Вальса уносящее, качая.
Вот и первый настоящий бал,
В Петербурге первая зимовка.
Люстры мощно освещают зал,
И плывет блондиночки головка,
И над ней брюнета голова
В музыке, меняющей фарватер…
Раз, два, три и снова раз и два,
После вальса будет па-де-катр,
А потом, наверно, краковяк
Или нет, мазурка… о, поляк!
Сквозь мазурку слышали в России
Блеск бряцающий и гонор твой,
Был зажат как бы в тиски живые
Край с его нерадостной судьбой.
Тяжелы твоих соседей лапы,
Лапы варвара у римских стен
(И недаром ты любимец папы),
А твои — Мицкевич и Шопен…
Только ты заносчивый… Все это
Есть в мазурке… Загремело где-то.
И она, и он плечом к плечу,
Он — откинувшись, она — скользящим
Шагом: улыбаюсь и лечу!
Между будущим и настоящим
(Прошлое, как небо, — в голубом)
Он — о польском гоноре… Как ловко…
Звон, и блеск, и стук… И каблучком
(Лани так звучала бы подкова
На траве) ему в ответ чуть-чуть
Ты стучишь о том, что будет путь