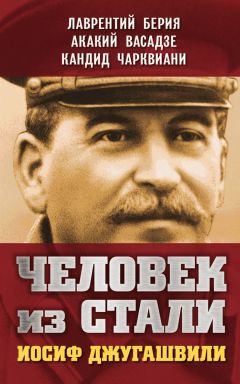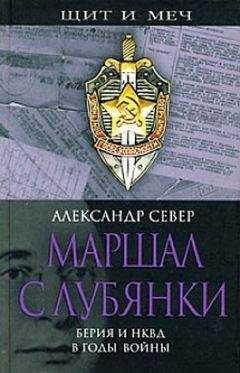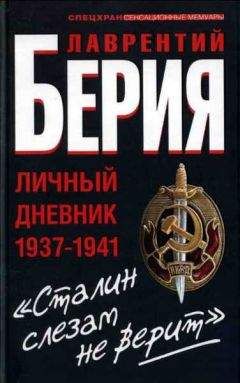Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело
XIV
Масленица 1910 года. С Ахматовой в Петербурге и Царском Селе. «Кипарисовый ларец». Неудачные «смотрины». В Окуловке у Ауслендера. Дискуссия о символизме. «Жемчуга». Красная Горка. Венчание Гумилева и Ахматовой.
В России, жившей в начале XX века по православному календарю, праздник Масленицы, предваряющий Великий пост, считался временем смотрин. Масленичные визиты «к теще на блины» делались с расчетом на то, чтобы после Великого Поста, на Красную Горку (Фомино воскресенье, первое после пасхального), молодые могли бы сыграть свадьбу. К сватовству и представлению молодых в роднящихся семействах, так или иначе, сводились все народные масленичные обряды:
Отдавала меня мать
Во великую семью,
Во великую семью —
В несогласную.
На масляную седмицу, пришедшуюся в 1910 году на последнюю неделю февраля, в Петербург из Киева приехала Ахматова. Как и полтора года назад, она остановилась у отца на улице Жуковского. Туда 25 февраля Гумилев, уже в качестве жениха, сделал визит, и они гуляли по Невскому, завернув в конце прогулки на Михайловскую площадь в Русский музей. Это посещение художественной галереи, хорошо знакомой ей с детства, стало памятной вехой в жизни Ахматовой: «Стихи я писала с одиннадцати лет совершенно независимо от Николая Степановича. Пока они были плохи, он, со свойственной ему неподкупностью и прямотой, говорил мне это. Затем случилось следующее: я прочла (в брюлловском зале Русского музея) корректуру «Кипарисового ларца»… и что-то поняла в поэзии». По всей вероятности, демонстрация корректуры посмертного сборника Иннокентия Анненского, которую Гумилев в эти дни все время таскал с собой, как раз и явилась аргументом в пользу ничтожества только что прочитанных стихов Ахматовой:
– Вот как надо писать!
Недовольная Ахматова присела на плюшевую скамью перед «Последним днем Помпеи» и… зачиталась. Забыв обо всем на свете, она тут же, не сходя с места, прочла книгу от корки до корки. «Я веду свое «начало» от стихов Анненского, – писала впоследствии она. – Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и художественной цельностью».
А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил…[138]
Можно не сомневаться, что остаток дня они провели в беседах о кончине Анненского, об «Аполлоне» и интригах Черубины де Габриак. Ахматова на всю жизнь свирепо возненавидела Дмитриеву и Волошина (что вряд ли справедливо, ибо создатели Черубины не были злодеями, сами оказавшись, в конце концов, жертвами своего же исчадия) и потребовала, чтобы намеченная на завтра ее поездка в Царское Село началась поклонением могиле Иннокентия Федоровича.
Так и произошло, однако «смотрины» у Гумилевых на Бульварной прошли из рук вон плохо. Поездка Ахматовой в Царское не задалась с самого начала. Был Широкий Четверг, на загородные гуляния ехало множество петербуржцев, и Ахматова случайно оказалась в одном вагоне с неведомыми ей… Мейерхольдом, Зноско-Боровским и другими «аполлоновцами», решившими развеяться и заодно навестить Гумилева. Тот, встречавший Ахматову с цветами на царскосельском вокзале, увидев невесту выходящей из поезда в компании друзей, совсем растерялся и, после замешательства, представил ее как «знакомую из Киева» (!), которая изъявила желание посетить могилу Иннокентия Анненского (!!). Легко представить, что, попав в дом Георгиевского, Ахматова находилась не в самом дружелюбном расположении духа. «У меня в молодости, – признавалась она, – был трудный характер, я очень отстаивала свою внутреннюю независимость, была очень избалована». С другой стороны, можно лишь догадываться, как отнеслась Анна Ивановна Гумилева к свадебным хлопотам, затеянным младшим сыном спустя две недели после отцовских похорон. Подробности «смотрин» неизвестны, однако, покидая на следующий день Петербург, Ахматова отправила своей подруге Тюльпановой красноречивую записку:
Птица моя, – сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу.
Она пыталась жаловаться и отцу, но тот печально погладил ее по голове и покивал, а потом вдруг спохватился:
– Ах, да еще… Вот, у Николая Степановича в журнале… э-э-э… «А-по-л-лон» опубликовано сочинение «Капитаны». Так ты уж ему скажи, что «над пасмурным морем следившие румб» – неправильно это. Моряки так не говорят. Непременно скажи, не забудь…
Странный он был человек, Андрей Антонович Горенко!
Зато в Киеве, где Ахматова сгоряча поведала домашним о несчастном визите к Гумилевым с теми самыми, неведомыми нам, подробностями, против «скандального брака» дружно восстали все (Инна Эразмовна Горенко и Анна Ивановна Гумилева так никогда и не встретились как сватьи до конца своих дней). Между тем, в отличие от рассерженных близких, ни Ахматова, быстро остынув, ни тем более Гумилев не были склонны видеть в неудаче «смотрин» нечто большее, нежели нелепое недоразумение. Сергей Ауслендер, живший тогда у родных в Окуловке под Новгородом, вспоминает, как Великим постом 1910 года к нему нагрянул взволнованный Гумилев: «В первый раз в те дни он говорил о своей личной жизни, говорил, что хочет жениться, ждет писем. Мы просиживали с ним за разговорами до рассвета в моей комнатке с голубыми обоями. За окном блестела вода. Я тоже хотел тогда жениться, и это нас объединяло… Мы оба в это время готовились жениться как-то беспокойно. Из Окуловки Гумилев посылал запрос в Царское, есть ли письма из Киева, беспокоился, как будто не был уверен в ответе, и, получив утвердительный ответ, попросил лошадей и тут же выехал на вокзал, хотя знал, что в это время нет поезда. Я провожал его, и мы ждали на станции часа два с половиной. Он не мог сидеть, нервничал, мы ходили и курили». В «письме из Киева» было окончательное согласие Ахматовой на брак с Гумилевым. Оба чувствовали необходимость во взаимном союзе и интуитивно понимали, что время пришло:
Влюбленные, пытайте рок, и вам
Блеснет сиянье розового рая.
От Красной Горки 1910-го – великого дня в истории российской культуры XX века – их отделяли только оставшиеся великопостные, Страстная и Светлая, седмицы.
Эти недели оказались очень насыщенными как в духовной, так и в творческой жизни Гумилева. Едва появившись после африканского путешествия в редакции «Аполлона», он сразу был вовлечен в спор о современном состоянии русского символизма, разгоревшийся после публикации в январском номере журнала статьи Михаила Кузмина «О прекрасной ясности». В этой статье Кузмин упрекал символистов в чрезмерной сложности их стихов и прозы: