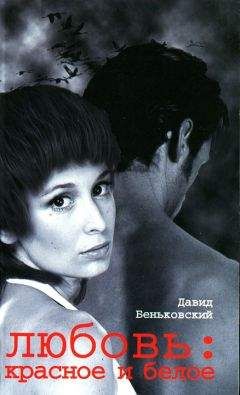Давид Самойлов - Перебирая наши даты
Я и в то время инстинктивно не доверял моде. Я стал разлюблять Пастернака.
Началось увлечение Хлебниковым. Под влиянием ранних поэм Хлебникова («И и Э», «Вила и леший») я стал писать поэму «Мангазея». В ней было несколько хороших строф, внушенных Хлебниковым. Павлу и Сергею она нравилась. Большинство осталось к ней равнодушно. Для меня она была важна, потому что была раскованней других стихов. Поэтические всхлипы и запутанные образы раннего Пастернака, наиболее почитаемого, меньше соответствовали моему характеру, в ту пору тянувшемуся к ясности и чистоте стиля. Я извлекал из Хлебникова эту ясность. Мне казалось, что я его понимаю.
Античную литературу читал нам Сергей Иванович Радциг. Главные достоинства его были любовь к своему предмету и его основательные знания. Читал он со старческой эмоциональностью, можно сказать, самозабвенно. Излагал содержание произведений и обильно их цитировал. Концепций особых не излагал и в глубину философии не вдавался. И это, может быть, было к лучшему, ибо исподволь приучало нас слушать университетские курсы, все более трудные. Не скажу, чтобы Сергей Иванович приучил меня любить античную литературу, однако он привлек к ней внимание. Я стал читать Гомера и Гесиода, сам постигая их первозданную прелесть. А потом даже полюбил Горация. Радциг был начальным знаком университетского обучения, человек добрый и невъедливый. Мы его любили. И боялись огорчить незнанием предмета.
Средневековье читал нам доцент Михаил Евгеньевич Михальчи. Тоже добрый и внимательный к студентам. Он не считался у нас в числе блестящих лекторов, хотя обладал большими знаниями, особенно в романских литературах. В отличие от Радцига, он студентов различал.
Я впервые тогда перевел несколько строф из «Большого завещания» Вийона и был тепло поддержан Михальчи. В общем, средневековая литература оказалась тоже интересной. Лекции были менее описательными, и мы начинали привыкать к истории литературы как к мыслительному процессу. И все же мы с нетерпением ожидали окончания этого раздела, ибо ходил слух, что Возрождение будет нам читать Пинский.
Он был одним из любимцев ИФЛИ. И действительно, был назначен читать нам лекции.
Роста он был небольшого, коренастый, с длинными темно — русыми волосами, которые он имел привычку кокетливо отбрасывать назад движением головы. Лицо его не было красиво, но выразительно. И к женскому полу он, кажется, был не совсем равнодушен, но и здесь сказывался в нем недостаток эстетического момента, о котором я скажу ниже.
Произносил он лекции, отрешась от действительности, взор устремив в окно; читал медленно, раздумчиво, как бы заново отыскивая слова, иногда мучительно. У него была привычка время от времени вертеть головой. И похож он был чем‑то на небольшую птичку.
Птичка эта чирикала не красно, ибо по форме лекции Пинского были не блестящи. Он не был оратор, он был проповедник.
Увлечься им можно было, только вслушавшись в содержание. А еще лучше было слово в слово записывать проповеди Пинского. А потом перечитывать. Тогда воспринималось стройное здание мысли, концепция периода литературы. Пинский давал понятие об исторической эволюции человеческой личности, о величии личности Возрождения и отсюда выводил особенности литературы.
Он был истинный проповедник. Писал значительно хуже.
В старину он стал бы знаменитым раввином где‑нибудь на хасидской Украине, святым и предметом поклонения. Поклонялись ему, впрочем, и мы. Он был огромный авторитет. Великий толкователь текстов.
Перед войной, как‑то случайно разговорившись, я познакомился и на короткое время сблизился с ним.
Мы несколько раз возвращались с ним из ИФЛИ через темные весенние Сокольники, и Пинский, не смущаясь, что слушатель у него один, с той же серьезностью и отдачей толковал тексты, возводил концепции и произносил парадоксы, остроумие которых было талмудического толка, то есть строилось на игре словесных значений.
Бывал я у него и в Усачевском общежитии, где жил он с дочерью и женой в небольшой комнате.
Война вскоре разлучила нас. Он пошел рядовым в ополчение. Начало войны совпало с подъемом его духа, и он величаво толковал события и был полон патриотического чувства. Несмотря на это, после войны он отсидел положенный срок за любовь к толкованиям.
И встретились мы только в начале 50–х годов, когда он был отпущен и реабилитирован.
Произошла эта встреча у Лунгиных, близко друживших с Леонидом Ефимовичем.
В нем еще были приметы зека или солдата, пришедшего со службы: неловкость и привыкание к отвычной обстановке. Однако тот же интерес к литературе, та же одушевленность при обсуждении ее проблем. Он увлечен был Мандельштамом и поминутно читал его стихи. Мандельштам — поэт, наиболее пригодный для толкований.
Но любовь к Мандельштаму была за счет, например, Блока. Тут мы схлестнулись. Он утверждал, что «Конь Блед» Брюсова куда выше блоковских «Шагов командора». Строки «в час рассвета холодно и странно» ставили его в тупик своей бессмысленностью. Именно в этом споре я впервые осознал недостаток в Пинском эстетического чувства. При всем своем уме и превосходном знании литературы он был «выковыриватель изюма из сайки» и любил литературу за то, что из нее можно построить грандиозные концепции. Ему нравилась концептуальность литературы, а не весь ее жизненный объем.
Встречались мы у Лунгиных еще несколько раз. Помню, снова крупно поспорили. На сей раз из‑за нового его увлечения, совсем непонятного, — из‑за стихов довольно сдвинутого и малоталантливого Севы Некрасова, бродившего тогда по московским салонам со своим рациональным алогизмом.
В общем, дружбы у нас не получалось. Хотя каждый раз встречались мы доброжелательно, и Пинский не жалел для меня своих парадоксов.
Летом 1981 года читал «Парафразы» Лепина[15] в «Синтаксисе». Жанр им был найден правильно — толкования слов. Но смысл толкований показался мне банальным. А способ изложения — заносчивым. Это присвоение права на беспощадную мысль только мыслящей элитой. Нет уважения ко «мнению народному», которое Пушкин ставил критерием при оценке исторических обстоятельств и действий.
Народное мнение, конечно, не может отлиться в такие четкие формы, как «Парафразы» Пинского, но оно есть воздух всякой мысли.
Вскоре после получения «Парафраз» я узнал о смерти их автора, о котором вспоминаю с благодарной и доброй печалью.
Все‑таки удивительный человек был!
Краткое знакомство с Владимиром Грибом состоялось до того, как он начал читать нам курс.
В ИФЛИ существовала стенгазета «Комсомолия». Это был авторитетный орган. Газета делалась интересно, живо, умно, остроумно. Ее деятели стояли высоко в институтской субординации. Подвизался в ней в качестве карикатуриста многим памятный Эдик Падаревский, погибший в войну; другим художником был тишайший Гена Соловьев. Известным редактором был Сергей Потемкин. Наиболее ловким репортером — Семен Красильщик. Все они потом вышли в люди.