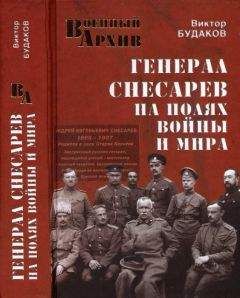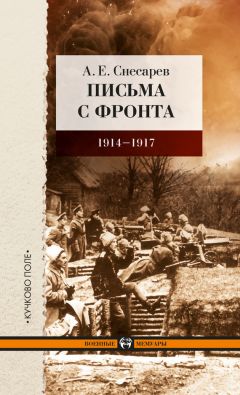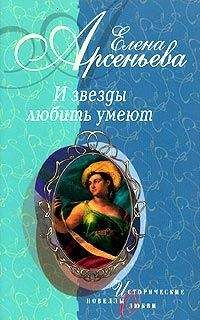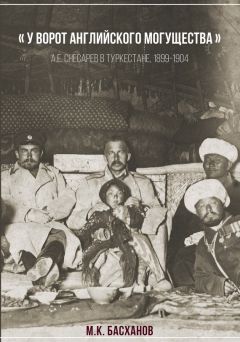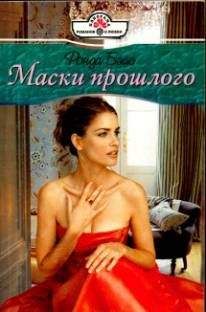Елена Прокофьева - Плевицкая. Между искусством и разведкой
Потом вера вернется к ней, но те недели после возвращения с фронта были самыми страшными в ее жизни. Хуже уже ничего не было и не будет.
Возможно, она по-настоящему впадала в безумие. К счастью, иногда этот процесс можно остановить и вернуть человека из сумрачного мира.
Однополчанин и лучший друг Василия Шангина, Ю.П. Апрелев, встречавший Плевицкую на перроне, ужаснулся внешнему виду ее, испугался ее нервического состояния, отвез Надежду к себе домой, вернее — к своей матери, Елене Ивановне, хорошо знавшей и самого покойного Шангина, и историю любви его к народной певице Плевицкой.
Елена Ивановна была писательницей, и история эта показалась ей особенно романтической, как-то не соответствующей времени.
Она приняла Плевицкую, как дочь, она заботливо ухаживала за ней, часами беседовала, утешала. Сидела у ее кровати, дожидаясь, когда Надежда заснет: после всего случившегося она стала бояться темноты и одиночества. Рассказывала ей о тех потрясениях и утратах, которые ей самой приходилось переносить за долгую жизнь. Обещала, что время излечит. Гладила по голове и шептала:
— Надо жить. Нельзя так сдаваться. Все равно надо жить! Подумайте: хотел бы он, чтобы вы так убивались? Он ведь смотрит теперь на вас… И печалится. Хотя бы ради него постарайтесь, прошу вас…
Когда Надежда начала приходить в себя, Елена Ивановна уговорила ее полечиться в клинике доктора Абрамова, для благозвучия называемой "водолечебницей", но на самом деле — дорогой психиатрической клинике. В этой "водолечебнице" не раз "отдыхал" Леонид Андреев, да и другие знаменитости Серебряного века обращались к доктору Абрамову за исцелением истерзанных нервов. Надежда знала о популярности клиники Абрамова в творческой среде и согласилась на лечение.
Популярность доктора Абрамова оказалась действительно заслуженной: ныне неизвестно, какими он пользовался методами, но результат был налицо — Надежда перестала бояться темноты, нормализовался сон, и она больше не принималась плакать безо всякого повода.
Абрамов подлечил ее нервы, но исцелить душу было не в его силах. Впрочем, душа — понятие абстрактное. А в начале XX века многие ученые и вовсе сомневались в наличии у человека такого органа, как "душа".
А кое-кто сомневается и по сей день.
Но Плевицкую тогда спасли только вера ее — детская, наивная неизбывная вера русской крестьянки — да еще жажда творчества, у настоящих талантов практически неугасимая.
Она писала:
"В память моего ушедшего жениха я желала служить миру по силам своим, а в минуты слабости духа я обращалась к Библии и к Святому Евангелию. А там сил источник неиссякаемый — только черпай и пей из родника истины, и тогда незаметно откроются духовные очи и увидишь, чего раньше не замечала, и познаешь, что ты не один, а добрые силы невидимые ведут тебя, и что злоба, зависть и жадность, все те железные оковы, от которых душе человеческой тяжко, сброшены, и легче солнечного луча станет душа. И возрастут у нее крылья быстрые с кладью любовною, и парит она по поднебесью, и видит яркий свет, ярче солнышка.
Моя долюшка — доля счастливая, будто матушка родимая меня учила уму-разуму. Чтобы знала я, как в труде живут, родила меня крестьянка-мать и отец мой пахарь-труженик. Чтобы славу я познала, она мне песни подарила. Чтобы золоту знать цену и каменьям драгоценным, меня и в золото, и в камни она любовно нарядила. Чтобы я всех любить умела, чтоб за жертвенность святую братьям кланялась я земно, показала мне судьбинушка реки красные, кровавые, напоила чашей горьких слез над крестами безымянными, что убогими сиротками по чужой земле разбросаны. Причастила горьким горюшком, умудрила, приголубила ярким светом, ярче солнышка, чтобы знала я да ведала, для чего сюда мы присланы, чтобы душа светилась и слезами омывалась. Вот где радость-то пресветлая, как додумалась, дозналась, для чего сюда мы присланы.
Н.В. Плевицкая. 1910-е гг.
В жизни я знала две радости: радость славы артистической и радость духа, приходящую через страдания. Чтобы понять, какая радость мне дороже, я скажу, что после радостного артистического подъема чувствуется усталость духовная, как бы с похмелья. Аромат этой радости можно сравнить с туберозой. Прекрасен ее аромат, но долго дышать им нельзя, ибо от него болит голова и умертвить может он. А радость духовная — легкая, она тихая и счастливая, как улыбка младенца. Куда ни взглянешь, повсюду светится эта радость, и ты всех любишь, и все прощаешь. Эта радость — дыхание нежных фиалок, дыхание их хочешь пить без конца. Радость первая проходит, но духовная радует до конца дней".
IVПосле кошмарных военных будней привыкнуть к мирной жизни в столице было невыносимо трудно. Даже водолечебница Абрамова тут помочь не могла. Здесь кипела светская жизнь.
Здесь жили люди. Толком и не понимавшие, что такое война! Для них война была временным неудобством. Предметом для бесед, несколько отвлекавших от привычной скуки. И поводом давать еще больше благотворительных утренников, балов и концертов!
Да, здесь кипела светская жизнь и царила привычная скука. Там — привычный кошмар. Здесь — привычная скука. Надежда начала опасаться, не сойдет ли она с ума на самом деле. Или, быть может, это они все сошли с ума?
Но ей нужно было общение. И ей приходилось посещать все эти мероприятия. Потому что она должна была вернуться к жизни. И — напомнить о себе!
Ведь ее почти забыли!
Нет, не совсем, конечно, но за время отсутствия на сцене она сделалась чем-то сродни легенде… Зажглись новые звезды, в городе строились все новые и новые кинотеатры! Тумбы, некогда обклеенные афишами "ПОЕТ НАДЕЖДА ПЛЕВИЦКАЯ", теперь оповещали: "Артистка-красавица ВЕРА ХОЛОДНАЯ в новом художественной фильме…"
Если она потеряет свою популярность, свою публику, свои залы — что останется у нее?
Ведь она потеряла все. Любимого, надежду на будущее счастье. Своих еще нерожденных детей.
Но — как она может вернуться? Как?! Как надеть концертное платье, нанести грим, выйти на освещенную сцену и петь… Что петь?! "Ехал на ярмарку ухарь-купец"? "Когда я еще молодушкой была"?! У нее перед глазами еще стоит тот дом. Тот крест… И мертвый солдат с раздробленной головой, и половинка черепа, как кровавая чаша… Треск пулемета… Ради Шангина она готова была отказаться от пения, но теперь — что осталось у нее кроме песен, в которых можно выплакать, выкричать свое горе? Но… Сможет ли она вообще петь? Остался ли у нее ее голос? Сомнения были ужасны, мучительны, невыносимы…