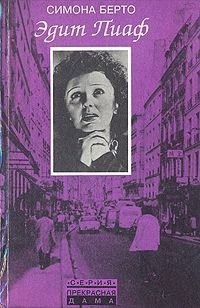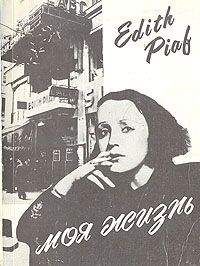Наталья Кончаловская - Волшебство и трудолюбие
Марина Ивановна отпила глоток вина и рассмеялась:
— А черед все не настает. У меня их тысячи, стихов, и я не соберусь их напечатать. — Она снова рассмеялась отрывистым и глухим смехом.
Заговорили о детях.
Марина Ивановна задумалась, а потом начала читать стихи своей дочери Али, написанные ею самой, когда она была подростком.
Ты уходишь, день, не открыв Кремля.
Ты плывешь в колокольном звоне…
Из двадцатого года уходишь ты
В Вербное воскресенье…
Благовещенье — внук твой откроет реку…
Из двадцатого года, из двадцатого века…
— Я опубликовала эти стихи в своей книге «Психея», они так и назывались — «Стихи дочери». Но все почему-то думают, что это стихи «К дочери».
Я смотрела на Марину Ивановну, стараясь не упустить ни одного ее движения, ни одной интонации. Вот она подняла голову.
Седые волосы со следами перманента коротко острижены, причесаны на косой ряд и подколоты сбоку гребешком. Вот она вынула его, провела им по пряди, откинув ее со лба, и снова подхватила гребешком.
— Я никогда не красила волос, — задумчиво говорила она, — даже когда мне было двадцать лет. В Париже один парикмахер предложил мне выцветать седую прядь надо лбом, на темных волосах. Я спросила его: «Если б я была мужчиной, предложили бы вы мне это?» Он ответил: «Нет, мадам!..» Ну так вот! А ведь все дело в том, что моя мать меня никогда не любила, она ждала сына вместо меня и хотела назвать его Александром, вот почему я все-таки похожа на Александра.
Все это говорилось негромко, ни разу не изменив позы, между папиросными затяжками. И ничего в Цветаевой с виду не было женственного.
— Я никогда не удерживала мужчину, если он уходил. Я даже не поворачивала вслед головы, хоть иногда и не знала, отчего он уходит. Уходит — так уходит!.. И они не уходили, они как-то исчезали. День — не пришел, два — не пришел, три — не пришел, а потом так и не приходил никогда. И так все… Почему так было — не знаю!..
Собеседников Цветаева слушала рассеянно и небрежно, но, может быть, это только так казалось. Если собеседник замолкал, она тут же начинала разговор на новую тему, и часто казалось, что она просто думает вслух:
— Зачем людям нефть? Зачем эта вонючая нефть?.. Хорошо жить в лесу, в деревянном доме.
— Но ведь и в лесу вам нужна будет керосиновая лампа! — смеялся Алексей Елисеевич.
— Я бы жила в лесу, — продолжала мыслить вслух Цветаева. — Писала бы стихи. Массу стихов!.. Вот сейчас у меня просят любовной лирики. Но ведь не могу же я со своей седой головой приносить только любовные стихи, это же будет смешно! Вот говорят: стихи ваши безукоризненны, мастерство блестящее, но подобрана книжка плохо. Не могу же я подобрать книжку из не своих стихов? Ведь это же все — мое. Подбирай так или эдак, сущность-то не изменится…
Она говорила это сдержанно, без тени раздражения, и лицо ее было неподвижно. Попыхивая папиросой, она искоса поглядывала на нас с Алексеем Елисеевичем, и казалось, что вот такой она и была всегда, ни моложе, ни красивей, ни жизнерадостней…
Было половина первого ночи, когда, распрощавшись с хозяином, мы с Цветаевой вышли на трамвайную остановку на Кировской площади. Дорогой она рассказывала мне о своем сыне Муре, которому в ту пору было пятнадцать лет, а я вглядывалась сквозь весенний белый сумрак в ее горбоносый профиль с высоким лбом и сухими линиями рта.
Подошел трамвай номер двадцать три. Цветаева торопливо простилась и по-девичьи легко побежала к вагону. Я смотрела на ее хрупкую фигурку в кожаном пальто, на синий берет, на ноги, обутые в толстые коричневые сандалии.
В окне удаляющегося вагона еще раз мелькнули передо мной ее чужие глаза, равнодушно глядевшие куда-то мимо. Ушедшая в себя, она исчезла куда-то, оставив в моей памяти неизгладимый образ, замкнутый в круг суровой обреченности.
Это было 18 мая 1941 года.
Я вернулась домой и тут же, ночью, записала эту единственную встречу с Цветаевой, от слова до слова, на нескольких листках бумаги. И я не расставалась с ними всю войну, они лежали в моей сумке все годы эвакуации, они лежали в моем письменном столе еще многие годы.
И вот они перед вами…
В кабинете хирурга
В белой бязевой рубахе навыпуск и таких же штанах профессор напоминал полового в старинном русском трактире. Он сидел за массивным столом в кабинете, бледный, длинноносый, уставший после очередной операции, и что-то сосредоточенно записывал. Я дружила с ним, и иногда мне удавалось уговорить его поехать к нам на дачу, подышать свежим воздухом и пообедать в кругу друзей.
С этой целью я и зашла за ним в один из весенних дней в пять часов вечера.
— Здравствуйте, милая моя. — Он поднял на меня глаза и, оживившись, указал на кресло возле стола: — Садитесь, пожалуйста, я скоро освобожусь.
Я забралась в кресло и украдкой начала разглядывать его характерное лицо с острыми, выразительными чертами, его угловатые плечи, обнаженные по локоть руки, сильные, нервные, его опущенные белесые ресницы, задумчиво моргавшие под большими стеклами очков. Было в этом суховатом лице нечто магнетически приковывающее ваше внимание, какой-то «сверхинтеллект» присутствовал в каждом его выражении. За легкой иронией, сквозившей в приспущенных веках и вежливой улыбке, всегда таился живой темперамент, горела неугасимая жажда познания и совершенствования, и все это воплощалось в его подлинном, врожденном артистизме. Если б он не был хирургом, был бы великим актером. Своей значительностью и благородством лицо профессора напоминало какого-то старинного европейского вельможу. Такие лица можно встретить на холстах голландских мастеров — под черным беретом, над белоснежными брыжами, черный бархат, золотая цепь. А душа в нем была пылкая, вдохновенная душа русского артиста…
Дверь приоткрылась, и кто-то робко спросил:
— Можно?
— Можно. Кто это? — не отрываясь от рукописи, пробурчал профессор.
Худой человек в железнодорожной форме с брюзгливо опущенными углами рта вошел и стал возле стола.
— Тебе чего? — Профессор вскинул глаза.
— Болит, — мрачно прогудел посетитель.
— Что болит-то? — Профессор продолжал писать.
— Да вот семь лет назад, — нерешительно начал посетитель, — вы мне удалили желудок…
— Ну и что? — Профессор оторвался от рукописи и внимательно уставился на железнодорожника.
— Ну, вот теперь, как чуть больше покушаешь, ноет… отзывно так.
— Скинь китель и заверни рубаху, — приказал профессор, и посетитель торопливо принялся раздеваться.